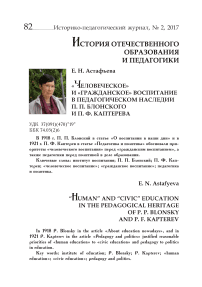«Человеческое» и «гражданское» воспитание в педагогическом наследии П. П. Блонского и П. Ф. Каптерева
Автор: Астафьева Елена Николаевна
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История отечественного образования и педагогики
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В 1918 г. П. П. Блонский в статье «О воспитании в наши дни» и в 1921 г. П. Ф. Каптерев в статье «Педагогика и политика» обосновали приоритеты «человеческого воспитания» перед «гражданским воспитанием», а также педагогики перед политикой в деле образования.
Институт воспитания, п. п. блонский, п. ф. каптерев, "человеческое воспитание", "гражданское воспитание", педагогика и политика
Короткий адрес: https://sciup.org/140205356
IDR: 140205356 | УДК: 37(091)(470)”19”
Текст научной статьи «Человеческое» и «гражданское» воспитание в педагогическом наследии П. П. Блонского и П. Ф. Каптерева
Требование необходимости воспитании человека, как человека, а не как гражданина в полном объеме было выдвинуто и обосновано Жан-Жаком Руссо (1712–1778) в романе-трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762). По словам Г. Б. Корнетова, в этом произведении Ж.-Ж. Руссо «предложил проект воспитания, ориентированного не на особенности жизненных условий людей (национальных, сословно-классовых и т. п.), а соответствующего природе человека как тако-вого»1. Женевский мудрец предлагал воспитывать не добродетельного гражданина, не джентльмена, не гуманиста, не христианина, а человека. Идеализируя «естественное» состояние человеческого общества, Ж.-Ж. Руссо писал: «В естественном строе, так как люди все равны, то общее звание их – быть человеком; кто хорошо воспитан для своего звания, тот не может быть дурным исполнителем и в тех же званиях, которые связаны с этим. Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом, – мне все равно. Прежде звания родителей природа зовет его к человеческой жизни. Жить – вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук, он не будет – соглашаюсь в этом – ни судьей, ни солдатом, ни священником; он будет, прежде всего, человеком; всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, как и всякий другой, и, как бы судьба не перемещала его с места на место, он всегда будет на своем месте. …Следует … видеть в нашем воспитаннике человека вообще – человека, подверженного всем случайностям человеческой жиз-ни»2.
Высказанная Ж.-Ж. Руссо точка зрения, хотя и вызвала бурную полемику, продолжающуюся вплоть до наших дней, но не получила широкого однозначного признания. Проблема, сформулированная Ж.-Ж. Руссо, особенно актуализировалась в условиях обострения политической борьбы и революционных потрясений, неизбежно порождавших стремление различных социальных групп и партий усилить свое влияние на подрастающие поколения, превратить воспитание в инструмент формирования требуемых «текущим моментом» ценностных ориентиров и поведенческих установок, сделать школу эффективном центром индоктринации детей и подростков.
Исключительно ярко эта проблема проявилась в России в эпоху революционных потрясений 1917 г. и последовавших за ними историческими событиями. В это время, как отмечает Г. Б. Корнетов, рядом отечественных педагогов «образование все более понималось как “человеческое” не в смысле противопоставления “воспитания человека” “воспитанию судьи, солдата, священника”, а в смысле “общечеловеческое” в противовес партийному, государственному, национальному, религиозному, как крайне узких для проявления человеческой природы»1. Особенно ярко эта точка зрения была заявлена П. П. Блонским и П. Ф. Каптеревым.
В номере 1–3 журнала «Свободное воспитание и свободная школа»2 за 1918 г. Павел Петрович Блонский (1884–1941) опубликовал небольшую статью «О воспитании в наши дни»3. Статья датирована 9 ноября 1917 г. Эта статья резко диссонирует с общим настроем материалов, публикуемых в журнале, пропитанным духом социального и педагогического романтизма. В ней не чувствуется упоения революционным порывом, отсутствует восторг перед открывающейся перспективой светлого будущего. Наоборот, П. П. Блонский с ужасом размышляет о происходящем в России, задумывается о возможных чудовищных последствиях революционного насилия для детей, которые оказываются его невольными свидетелями и, тем более, участниками.
Свою статью П. П. Блонский начинает с общего описания ситуации и оценки, которая сложилась в результате идущей Первой мировой войны и начавшихся революционных преобразований в России. Он пишет: «Четвертый год культурные народы Европы занимаются убийствами, грабежами и спекуляциями; девятый месяц граждане России осыпают друг друга площадной бранью и самой грязной клеветой, сажают друг друга в тюрьмы и, наконец, не удовлетворившись этим, начали расстреливать на улицах мирных городов и друг друга, и случайных обывателей. Для того, чтобы возмущаться всем этим, я уже одеревенел. Я слишком убежден в том, что современная европейская культура – пошлая, лживая и звериная культура. И только одна мысль утешала меня: вырастет новое поколение, создаст новое, лучшее будущее. Но гибнет и эта надежда»4.
Далее П. П. Блонский с ужасом рассказывает о создании в Галиции «малолетней шпионской организации». Взрослые подкупали русинских детей для того, чтобы те шпионили за своими земляками и выдавали их. Была создана специальная школа, призванная готовить «малолетних шпионов и предателей своих братьев на смерть».
Но в еще больший ужас П. П. Блонского повергли события, связанные с вооруженным захватом власти Советом рабочих и солдатских депутатов в Москве в конце октября – начале ноября 1917 г. (по старому стилю). Именно этим событиям, которые П. П. Блонский называет «гражданской войной», посвящена основная часть статьи «О воспитании в наши дни»: «Всего лишь несколько дней, как стихла в Москве гражданская война. Много страшных впечатлений дала она, но из этих впечатлений для меня одно страшнее всех других. Маленькие подростки “красногвардейцы”, почти дети, из винтовок стреляли в людей, а другие люди называли за это этих несчастных подученных детей-убийц “молодцами”. Вооруженные дети обыскивали и арестовывали прохожих. До какого полного одичания должны дойти люди, чтобы делать своих детей убийцами и полицейскими! Для этих людей есть, однако, хотя немного оправдания: это темные люди. Но накануне гражданской войны ходили по гимназиям уже образованные люди и, с поощрения воспитателей, записывали подростков-детей в “белую гвардию”. Взрослые интеллигентные люди посылали тринадцатилетних детей “лазутчиками” в стан врагов. Что сделали эти “порядочные” люди с душою тех, кого учили уже в 13–14 лет стрелять в своих братьев, как охотник стреляет в дичь! И фантазия рисует кошмарную картину, как, по наущению взрослых, пуля подростка “белогвардейца” летит в грудь мальчика ”красногвардейца” и наоборот. Каким нужно быть дикарем, чтобы ради тех ничтожных выгод, которые может дать помощь вооруженных детей, втягивать детей в убийства гражданской войны! Но даже не это леденит сейчас сердце. … Я уверен в том, что родители, учителя и воспитатели, люди с взрослой, то есть мертвой совестью, промолчат и не возмутятся всем этим “обыденным”. Я уверен, наконец, и в том, что наиболее одичалые из педаго- гов поспешат оправдать и прославить подобное “воспитание” детей. Я уверен в этом, так как я живу в Европе 1917 г. среди борцов за “идеальное” будущее России»1.
П. П. Блонский увидел в стремле- нии использовать различными политическими силами детей и подростков для достижения собственных целей в ходе революционной борьбы дикость, калечащую молодые души, что делало для него одинаково отвратительными и белогвардейцев, и красногвардейцев. Это заставило П. П. Блонского со всей остротой поставить вопрос о педагогических последствиях вовлечения подрастающих поколений в политику. Ответить на этот вопрос он по- пытался в следующем номере журнала «Свободное воспитание и свободная школа» в статье «Гражданское или политическое воспитание?»2, которая датирована 1 января 1918 г.
«Всегда и везде проповедь чело- вечности была высшей педагогичес- кой мудростью … Так учат великие педагоги»3, – заявил П. П. Блонский, начиная свою статью. Свою позицию он подкреплял ссылками на авторитеты Платона, Аристотеля, Плотина,
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, В. Г. Белинского, Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого. «Великие педагоги, – писал П. П. Блонский, – единодушны: их высший идеал – человек, как образ Бога живого. Но большинство современных педагогов забыло великие слова великих учителей и пытается построить воспитание на совершенно иных основах. И, строя воспитание на иных основах, эти педагоги, отступники от вечных педагогических идеалов, самоуверенно заявляют, что их лозунг – самые лучшие, самые нужные, даже самые прогрессивные. Воспитание гражданина – вот модный современный педагогический лозунг»1.
Стремление политизировать воспитание, политизировать школу, по мнению П. П. Блонского, присуще государству и партиям. «Еще не покрылась давностью фраза, что главная задача школы – создать верноподданных его величества, – отмечал он, – но бедная русская школа и сейчас продолжает служить не своему Богу, не Богу человечности. Фраза: “надо создать из детей граждан”, звучит на всех перекрестках педагогической улицы, а фразу: “надо из детей сделать людей”, почти не слыхать. Но так как в понимании “истинного гражданина” политические партии неизбежно расходятся, то столь же не- избежно гражданское воспитание на практике превращается в партийное. До революции школа жила идеальной монархической партией, а сейчас, с одной стороны, мы имеем ряд ученических организаций, выносящих политические резолюции в духе к.-к. партии и агитирующих за “список № 1”2, а с другой, читаем в газетах, как о чем-то нормальном, извещения о собраниях учащихся – гимназистов с.-р. партии3; наконец, крайне левая с.-д. партия (“большевиков”)4 организует “свои” кружки и мечтает о “своей” школе. Нормально ли это и насколько вяжется с воспитанием “человека? ”»5.
По искреннему убеждению П. П. Блонского «уже самая необходимость доказывать недопустимость партийного политического воспитания школьников вполне характеризует низкое состояние современной педагогики. Настоящий идеальный человек – человек со свободным критическим умом, терпимо, беспристрастно и честно относящийся к людям, с чуткой индивидуальной совестью. Но партийность – синоним догматизма и пристрастия: “партийный” убежден, что “его” партия абсолютно права, а “чужие” лгут, и для него его товарищи всегда оправдываемы, а “чужие” чуть ли не негодяи. “Разное” чужих убеждений и реклама своей партийной про- граммы, партийные перебранки, азарт озлобления и оговора соперников, “ловкие” приемы в агитации и споре – не портит ли все это ума, сердца и характера подростков? Я взрослый человек, пробыв некоторое время после революции в партии1, не могу без ужаса перед собой вспомнить это, мы в этот омут страстей и догм тащим умственно и нравственно неокрепшего подростка!»2.
П. П. Блонский был уверен, что всякая партия прежде всего борется за власть над народом, что за всякой партией тянется шлейф насилия, тюрем и смертей. Победа любой партии неизбежно порождает новое господство над народом и его ослепление. При этом вместо воспитания свободного, гуманного и искреннего человека воспитывается партийное политическое мясо. Он писал: «Говоря о гражданском воспитании, я сбился на партийное воспитание, потому что, по моему убеждению, по крайней мере, при современном положении вещей, одно неизбежно переходит в другое. … Для всякого, озабоченного выработкой из детей граждан, идеальный гражданин – член его партии, и от “нейтрального” гражданского воспитания слишком явно для всех, кроме членов данной партии, веет партийностью. Но допустим возможность нейтрального гражданского воспитания. … Я очень боюсь, что, если мы поставим основной целью воспитания воспитание граждан, мы воспитаем людей, которые уже не смогут быть, прежде всего, людьми. … Люди, прежде всего люди. “Какая мудрость может быть для нас вне человечности? ” (Руссо). И к призыву стать в первую очередь гражданами я отношусь теперь с подозрением. Я боюсь, что этим призывом хотят заглушить во мне, как в человеке, человеческое»3.
П. П. Блонский высказывал убеждение, что существующие государства основаны на несправедливости и насилии, поэтому воспитание граждан таких государств не может быть высшей ценностью для человека. Он ставил вопрос о целесообразности воспитания гражданина идеального государства, основанного на справедливости и служащего идее высшего добра. «Но тогда – отмечал он – идеальным гражданином будет тот человек, кто “делает свое дело” в человеческом обществе, служа в меру своих сил и способностей, добру и справедливости. Иными словами, тогда идеальным гражданином будет всякий нравственный человек, и гражданское воспитание должно слиться с нравственным. Итак, или речь идет о гражданине справедливого государства, и тогда гражданское воспитание, как таковое, заменяется нравственным, или речь идет о специфическом воспитании гражданина данного государства, но тогда нравственность подчиняется политике. Хороший человек всегда будет хорошим гражданином в идеальном смысле этого слова, но далеко не всякий гражданин, как бы не славословили его те, чьим интересам он, ослепленный и обездушенный, служит, будет хорошим человеком»1.
Ратуя за приоритет человеческого начала, П. П. Блонский особо подчеркивал, что он вовсе не является противником гражданского воспитания. Он лишь выступает против обособления гражданства от нравственности и человечности. «Люди, будьте людьми, и вы будете самыми полезными гражданами!»2, – восклицал он.
В заключении своей статьи, вновь ставя вопрос «Человеческое или гражданское воспитание? Педагогика или политика?», П. П. Блонский завершает ее следующими словами: «Современный человек-гражданин часто бывает далек от подчинения политики нравственным требованиям. Уподобляя себе своих детей, он сейчас, наоборот, и педагогику и нравственность подчиняет политике. Для этой же цели и современные педагоги, забыв вечно великие заветы великих педагогов, всегда и везде учивших о воспитании в человеке образа Бога любви, создали свою теорию воспитания в человеке гражданина современного мало человеческого общества»3.
Эстафету П. П. Блонского подхватил и продолжил Петр Федорович Каптерев (1849–1922), последовательно придерживавшийся либерально-демократических взглядов и в предреволюционное десятилетие примыкавший к партии кадетов. Не принявший Октябрьской революции, попавший в немилость к большевистскому режиму, он, на излете своей жизни, опубликовал в конце 1921 г. в журнале «Педагогическая мысль» (№ 9–12) статью «Педагогика и политика». Если П. П. Блонский писал свой текст сразу после октябрьских революционных событий, происшедших в двух российских столицах, П. Ф. Кап-терев обратился к проблеме гражданского и человеческого воспитания уже после окончания Гражданской войны в условиях, когда новая власть в полном объеме продемонстрировала свою разрушительную силу и стремление к идеологическому и политическому диктату, еще до конца не установившемуся, но уже ощущающемуся, как вполне реальная перспектива. В условиях провозглашения большевиками школы важнейшим инструментом построения нового общества П. Ф. Каптерев перевел обсуждаемую проблему в плоскость вопроса о возможности и необходимости поли- тизации школы или превращения ее в организацию неполитическую.
П. Ф. Каптерев писал: «Все строго партийные взгляды более или менее односторонние, узкие, а потому неправильные; в них наука, истина, строгое объективное знание на втором и третьем плане, а на первом – слу- жение партийному Богу путем поста-
новки образования в духе и интересах партий, привитие партийных взглядов подрастающим поколениям, втирание очков на мир и общественность с детства, своего рода иезуитизм. Школа сама по себе лишается политическими партиями значения и ценности, педагогика превращается в простую прислужницу партийной политики, педагог становится проводником по-литическо-партийных депеш, лишается всякой самостоятельности. Может ли настоящий серьезный педагог примириться с таким приниженным положением в своей науке, и себя самого лично? Очевидно, нет»1.
Педагог, по мнению П. Ф. Кап-терева, является служителем вечных законов развития человека и человечества. Школа не может быть прихвостнем политических партий. Основываясь на вечных законах развития человеческого организма, она их. Истинный, Вечный – наука о человеческой ее развитии, которому служить и поклоняться.
стоит выше Бог школы природе и она должна
П. Ф. Каптерев подчеркивал: «У педагога своя сфера деятельности, а у политика своя, педагогика неполитична по самому своему существу. Политик имеет в виду массы, а не личности. Народ, масса – многоголовое существо, постоянно изменяющееся вследствие отмирания старых поколений и нарождения новых. Личность при таком многочисленном, многомиллионном составе ничтожна, нуль, а для педагога она священна. … Главный источник спасения рода человеческого политик видит в усовершенствовании экономических, политических и вообще разных внешних культурных условий, не особенно печалясь об усовершенствовании человеческой природы. Педагог своей прямой, непосредственной и важнейшей задачей признает усовершенствование личности, а все внешние условия ее жизни считает имеющими второстепенное значение, следствиями коренного усовершенствования природы воспитуемых»2.
П. Ф. Каптерев обращает внимание на то, что в числе основных человеческих свойств есть общественность, социальный инстинкт, который также подлежит непременному развитию, требующих педагогических усилий. Именно общественность человеческой природы связывает педагогику и политику, ибо педагог, служа всестороннему естественному развитию человека, должен служить и его общественно-политическому развитию. «Педагог, – утверждал П. Ф. Каптерев, – обязан развивать общественность в детях, но не обязан развивать ее в духе какой-либо определенной партии, даже более того, обязан не окрашивать общественность в цвет какой-либо партии. Иное дело общественность, а иное – политическая партия. Общественность – широкое свойство человеческой природы, есть потребность, способность к совместной с другими работе, к организации с другими, чувство благорасположения к людям»3.
Постановка образования в духе какой-либо политической партии виделась П. Ф. Каптереву частным, односторонним и чрезвычайно узким выражением общественности, как важнейшего свойства человеческой природы. Такое образование не развивает, а подавляет это свойство. Однако, считает П. Ф. Каптерев, педагог обязан «при достаточном возрасте учащихся, в связи с историкополитическими науками, ознакомить молодежь с задачами и сущностью политических партий, рассмотреть партийные взгляды критически, но совершенно беспристрастно, объективно, в строго научном духе. Какую партию нужно избрать – этот вопрос каждый должен решить сам для себя, по собственному разуму и усмотрению. Подсказывать решение такого важного вопроса, а тем более навязывать его учащимся – педагогу нельзя»1.
Статьи П. П. Блонского (вскоре безоговорочно вставшего на сторону большевистской власти и пропагандировавшего классово-партийных подход) и П. Ф. Каптерева были «гласом вопиющего» в пустыне российской революции. Брутальные политические силы сошлись в кровавой схватке, приведшей к Гражданской войне, победе большевиков, сталинскому террору, тоталитарному Советскому Союзу с его «единственно правильной» марксистко-ленинской идеологией, якобы выражающей интересы самого передового в мире класса. В этих условиях примат гражданского, классово-партийного воспитания безусловно восторжествовал, стал единственно возможным, освященным мудростью руководящей и направляющей силы советского государства – Коммунистической партией. Воспитание верных ленинцев (сталинцев), строителей светлого коммунистического (социалистического) общества стало официально признанным приоритетом школы и педагогики в нашей стране на многие десятилетия. Политика победила и подчинила себе педагогику. Вопрос о соотношении гражданского и человеческого воспитания так же, как и вопрос о педагогике и политике, о политизации школы считался раз и навсегда решенным.
Однако последовательный гуманистический утопизм П. П. Блонского и П. Ф. Каптерева, выказанный ими при обсуждении рассмотренных проблем, со всей возможной остротой ставил как перед государственными, общественными и партийными деятелями, так и перед учеными, педагогическими мыслителями и учителями вопрос об ответственности за то, что происходит с воспитуемыми и обучаемыми детьми и подростками, со школами, как образовательными учреждениями, в условиях острой политической борьбы и революционных катаклизмов. Высказанная П. П. Блонским и П. Ф. Каптеревым точка зрения заставляла задуматься о последствиях «безбрежной» идеологизации и политизации воспитания, школы, педагогики.
Список литературы «Человеческое» и «гражданское» воспитание в педагогическом наследии П. П. Блонского и П. Ф. Каптерева
- Астафьева, Е. Н. Восхождение к истории педагогики/Е. Н. Астафьева//Academia: Педагогический журнал Подмосковья. -2015. -№ 2. -С. 57-63.
- Астафьева, Е. Н. Изучение педагогических конфликтов в контексте педагогического наследия прошлого/Е. Н. Астафьева//Историко-педагогический журнал. -2016. -№ 2. -С. 101-113.
- Астафьева, Е. Н. Историко-педагогический контекст теории и практики современного образования/Е. Н. Астафьева//Academia. Педагогический журнал Подмосковья. -2016. -№ 4. -С. 56-68.
- Астафьева, Е. Н. Ценности гуманизма как образ хорошей школы первой трети ХХ века/Е. Н. Астафьева//Историко-педагогический журнал. -2016. -№ 1. -С. 113-129.
- Астафьева, Е. Н. Понимание воспитания в истории педагогики/Е. Н. Астафьева//Теория образования и подготовка профессиональных кадров: история и современность/под ред. Л. Н. Антоновой, Г. Б. Корнетова, А. И. Салова. -М.: АСОУ, 2016. -С. 14-19.
- Астафьева, Е. Н. Природа и свобода ребенка в отечественной педагогике первой трети ХХ века/Е. Н. Астафьева//Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: педагогические направления в теории и практике образования: материалы Одиннадцатой Международной научной конференции. Москва, 19 ноября 2015 г./редактор-составитель Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ, 2015. -С. 22-36.
- Астафьева, Е. Н. Свободное воспитание в России в конце XIX -первой четверти ХХ века/Е. Н. Астафьева//Историко-педагогический журнал. -2015. -№ 2. -С. 80-99.
- Блонский, П. П. Гражданское или человеческое воспитание?/П. П. Блонский//Свободное воспитание и свободная школа. -1918. -№ 1-3. -Ст. 79-88.
- Блонский, П. П. О воспитании в наши дни/П. П. Блонский//Свободное воспитание и свободная школа. -1918. -№ 1-3. -Ст. 137-140.
- Каптерев, П. Ф. Педагогика и политика//П. Ф. Каптерев; сост. П. А. Лебедев. -М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2001. -С. 211-216. (Антология гуманной педагогики).
- Корнетов, Г. Б. Образование человека в истории и теории педагогики/Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ; Золотая буква, 2006. -148 с.
- Корнетов, Г. Б. Педагогика авторитета, манипуляции и поддержки/Г. Б. Корнетов//Academia. Педагогический журнал Подмосковья. -2015. -№ 3. -С. 46-56.
- Корнетов, Г. Б. Педагогика свободного воспитания/Г. Б. Корнетов//Свободное воспитание: хрестоматия/сост. Г. Б. Корнетов. -М.: Изд-во РОУ, 1995.
- Корнетов, Г. Б. Педагогика: теория и история/Г. Б. Корнетов. -3-е изд., перер., доп. -М.: АСОУ, 2016. -472 с.
- Корнетов, Г. Б. Педагогические учения в историко-педагогическом процессе/Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ, 2015. -260 с.
- Корнетов, Г. Б. Постижение истории педагогики/Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ, 2014. -152 с.
- Корнетов, Г. Б. Теория истории педагогики/Г. Б. Корнетов. -М.: АСОУ, 2013. -460 с.
- Корнетов, Г. Б. Что такое образование/Г. Б. Корнетов//Academia. Педагогический журнал Подмосковья. -2016. -№ 3. -С. 48-54.
- Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании/Ж.-Ж Руссо; пер. с фр.//Пед. соч.: в 2 т. -М.: Педагогика, 1981. -Т. 1. -С. 19-592.