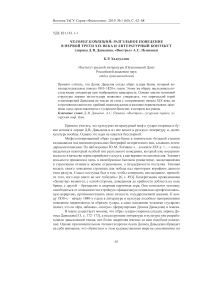Человек буянящий: разгульное поведение в первой трети XIX века и литературный контекст (лирика Д. В. Давыдова, "Выстрел" А. С. Пушкина)
Автор: Халиуллин Карим Ришатович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Принято считать, что Денис Давыдов создал образ гусара-буяна, который воплощали реальные повесы 1810-1820-х годов. Этому же образу наследовала последующая литература при изображении кавалериста. Однако анализ мотивной структуры лирики поэта-гусара позволяет утверждать, что лирический герой стихотворений Давыдова не только не схож с «озорниками» начала XIX века, но и противопоставлен им: крайний индивидуализм и желание первенствовать заменены здесь представлением о гусарском братстве, в котором все равны.
Д. в. давыдов, а. с. пушкин, "выстрел", гусарская лирика, гусарский миф, буян
Короткий адрес: https://sciup.org/146281365
IDR: 146281365 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Человек буянящий: разгульное поведение в первой трети XIX века и литературный контекст (лирика Д. В. Давыдова, "Выстрел" А. С. Пушкина)
Принято считать, что культурно-литературный миф о гусаре-озорнике и буяне возник в лирике Д.В. Давыдова и из нее вошел в русскую литературу и, далее, культуру вообще. Однако это идея не кажется бесспорной.
Мифологизированный образ гусара-буяна в значительно большей степени складывался под влиянием реальных биографий исторических лиц, слывших легендарными повесами. По наблюдению Ю. М. Лотмана: «…в начале XIX в. <…> начал выделяться некоторый особый тип разгульного поведения, который уже воспринимался не в качестве нормы армейского досуга, а как вариант вольномыслия. Элемент вольности проявлялся здесь в своеобразном бытовом романтизме, заключавшемся в стремлении отменить всякие ограничения, в безудержности поступка. Типовая модель такого поведения строилась как победа над некоторым корифеем данного типа разгула. Смысл поступка был в том, чтобы совершить неслыханное, превзойти того, кого еще никто не мог победить» [6, с. 493]. Конкретными проявлениями «буянства» являются, с одной стороны, доведенная до крайности доблесть на поле брани, с другой – бретерство и азартная карточная игра. Они позволяют человеку освободиться от вписанности в стройную официальную социально-профессиональную иерархию, противопоставить свою личность государственной машине. К концу 1830-х – началу 1840-х годов в литературе и культуре подобное ненормативное поведение закрепляется за образом гусара, а само называние человека «гусаром» значит, что он «ёра, забияка», «шалун» (формулировки Дениса Давыдова) и повеса.
В науке существует мнение, что образ гусара-озорника создала лирика Дениса Давыдова [13, c. 172–173], а последующие литература и культура уже разрабатывали давыдовский типаж, все более закрепляя именно за ним подобное поведение. Однако при внимательном чтении гусарских песен Дениса Давыдова обращает на себя внимание, что «буянство» в этом художественном мире не синонимично ни бретерству, ни картежничеству. В лирике поэта-гусара мотивы, связанные с азартной игрой, встречаются лишь несколько раз, а дуэль, по нашим наблюдениям, вообще не упоминается. Картежничество и бретерство как неотъемлемые черты поведения героя-гусара появляются позднее – в прозе 1820-х – 30-х годов – в творчестве А. С. Пушкина, А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Карлгофа, Д. Н. Бегичева и др. Ко второй половине XIX века гусар-дуэлянт и картежник становится четко определившимся литературным типом, особенно колоритно представленным в произведениях Л. Н. Толстого о «золотом веке» русской дворянской культуры («Война и мир», «Два гусара»). И в XX веке (в частности, в пьесе А.К. Гладкова «Давным-давно», а также в фильме «Гусарская баллада», снятом по ней Эльдаром Рязановым), и сегодня гусар – не просто военнослужащий российской Императорской армии, а идеальный представитель «века богатырей». Об этом свидетельствует, например, наличие сайтов в сети Интернет, посвященных гусарству, или своеобразных гусарских фан-клубов. В то же время остальные рода войск (в том числе конные: драгуны, уланы и др.) не так интересуют современного пользователя сети.
Человек, претендующий на звание исключительного, должен был совершать неожиданные, восхищающие либо своей дикостью, либо чрезмерной храбростью (что нередко шло бок о бок) поступки, причем не только на войне, но и в повседневной жизни. Вокруг него возникали легенды, в которых как современники, так и потомки не всегда могли отделить правду от вымысла. Так, А. И. Якубович, «отъявленный повеса, проказник, не сходивший почти с гауптвахты» [1, с. 291], который был еще и «необычайно честолюбив» [3, с. 119], нередко додумывал истории из своей жизни, намеренно создавая вокруг себя мифологический ореол. Известен его рассказ о дуэли с А. С. Грибоедовым (в четвертной дуэли, в которой, кроме самих дуэлянтов, А. П. Завадовского и В. В. Шереметьева, должны были стреляться и их секунданты, Грибоедов и Якубович), полностью построенный по сюжету повести Пушкина «Выстрел»: «Мы с Грибоедовым жестоко поссорились – и я вызвал его на дуэль, которая и состоялась. Но когда Грибоедов, стреляя первый, дал промах – я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более дорожить жизнью, нежели теперь <… > и наконец я узнал, что он женился и наслаждался полным счастьем (выделено мной. – К. Х. )» [2, с. 365–366]. Далее рассказ продолжается, следуя пушкинскому сюжету, а ранение Грибоедова в руку Якубович объясняет как намеренное: «…я раздробил ему два большие пальца на правой руке, зная, что он страстно любил играть в фортепиано и лишение этого будет для него ужасно» [Там же]. О наличии в этой истории элементов художественного вымысла свидетельствует хотя бы намеренное нарушение хронологии событий: дуэль между Грибоедовым и Якубовичем произошла в 1818 году, а женился Грибоедов только в 1828-м.
Не менее яркие и притом более достоверные эпизоды встречаются в биографиях других известных «буянов»: Ф. И. Толстого-Американца, М. С. Лунина, И. П. Липранди, Ф. А. Уварова и др. Несмотря на разность судеб, всем им были присущи те же черты, что и Якубовичу, – честолюбие и тщеславие, желание преодолеть другого, стать первым, унизив и тем самым победив соперника. Для такого человека равным мог стать только такой же бретер и гуляка, как и он сам. Он всегда желал быть исключительным, выделяться на фоне всех остальных, что, впрочем, не отрицало способности к искренней дружбе и искренней любви к отечеству. Известна, например, близкая дружба Ф. И. Толстого-Американца с Денисом Давыдовым и с П. А. Нащокиным, с которым они даже обменялись кольцами с уговором, что первый, кто почувствует приближение смерти, сообщит другому и умрет у того на руках [12, с. 265].
Однажды (в 1813 году) Лунин, служа еще в кавалергардах, вызвал цесаревича Константина Павловича на дуэль [6, c. 14–16]. Наследник престола сгоряча разругал полковника, ехавшего не по форме в шапке. Полковник нарушил форму одежды по причине болезни и, сочтя себя оскорбленным, подал в отставку. После этого «офицеры всего полка признали поступок с полковником оскорбительным для всех и подали Депрерадовичу общую просьбу об отставке» [7, с. 15] Цесаревич, узнав об этом, на дневном смотре извинился перед офицерами, прибавив, что готов дать удовлетворение любому, кто им недоволен. Полковник и офицеры были благодарны Константину Павловичу за честь, оказанную им, и приняли извинения. Однако из рядов вперед вышел Лунин и попросил о личном удовлетворении. Великий князь, улыбнувшись, сказал, что офицер еще слишком молод [11, с. 556]. Вызов на дуэль командира классифицировался как бунт, неподчинение служебной иерархии. Вышестоящий офицер имел полное право уведомить об этом армейское руководство (причем его честь от этого не страдала), после чего вызывающего в лучшем случае лишали офицерского звания и отправляли на Кавказ, в худшем же – в Сибирь. Что же тогда говорить о вызове на поединок чести члена царской семьи. Лунин рисковал не просто своим будущим, а жизнью, желая совершить немыслимое, то, на что у иного не хватило бы духа.
Толстой-Американец во время кругосветного путешествия поссорился с И. Ф. Крузенштерном и последовательно призывал команду к бунту против него. Командир экспедиции несколько раз пытался примириться с буяном, но тщетно: Толстому хотелось быть первым на этом судне, как и в жизни вообще. Крузенштерн пригрозил высадить бунтаря на необитаемый остров, на что тот ответил: «Вы, кажется, думаете меня запугать! В море ли вы меня бросите, на необитаемый ли остров, мне всё равно; но знайте, что я буду возмущать против вас команду, пока останусь на корабле» (цит. по: [11, с. 265]).
Как известно, командиру ничего не оставалось, как оставить Толстого на Алеутских островах.
К легендарным историям из биографии Липранди относится, например, эта. В 1809 году в условиях строжайшего запрета на международные дуэли он вызвал на поединок первого шведского дуэлянта барона Блома. Они долго спорили об оружии: Липранди настаивал на пистолетах, Блом же предпочитал драться на шпагах. Не выдержав додуэльной полемики, Липранди «прекращает спор, хватает тяжеленную и неудобную шпагу (лучшей не нашлось), отчаянно кидается на барона, теснит его, получает рану, но обрушивает на голову противника столь мощный удар, что швед валится без памяти, и российское офицерство торжествует» [14, с. 14]. Липранди считает себя защитником чести всего русского оружия, за которую стоит сражаться не только на поле брани, но и на поединке.
Думается, такой тип поведения мотивирован желанием изъять себя из коллектива и возвыситься над ним.
Многие легендарные кутилы и бретеры (Лунин, Ф. Ф. Гагарин, сам Давыдов) действительно служили в гусарах. Бывший, правда, кутилой больше в стихах, а не жизни, «Давыдов, когда хорошо его узнаешь, только хвастун своих пороков» – говорил о нем князь А. Г. Татищев [9, с. 628–629]. Более того, мы не смогли найти информации ни об одной дуэли Давыдова. В значительном количестве анекдотов фигурируют усатые наездники и гусарские полки [5, с. 83]. Однако многие офицеры служили в различных воинских подразделениях, не только в гусарах или ула- нах. Так, Лунин начинал службу в Егерском полку, позднее был переведен в кавалергарды и только в 1822 году поступил на службу в Гродненский гусарский полк, Толстой-Американец вообще был пехотинцем, даже Давыдов начинал службу в кавалергардах. Несмотря на это, в литературе и культуре за ними закрепилась слава именно гусара. Стоит отметить, что главным шальным полком в России тех лет был не гусарский, а 44-й Нижегородский драгунский полк (кавказский полк), в который ссылали офицеров за бретерство и другие дисциплинарные проступки и преступления. Именно в него, в частности, был сослан Лермонтов.
Не менее противоречиво и влияние лирики Дениса Давыдова на действительность рассматриваемого периода. В стихотворениях Давыдова создается образ гусара, представляющего собой идеального военного первой трети XIX века.
Для героя Давыдова гусары – братья, они равны между собой, нет первых и последних. Ты гусар постольку, поскольку ты храбр на поле боя и на пиру, а большего и желать нельзя. Понятия иерархии, подчиненности (и формальной, и ментальной) чужды свободолюбивому «сотоварищу урагана», они являются определяющими для «большого» мира ложных ценностей, которому противостоит весь мир давыдовской лирики. «Я» в этом смысле равняется «Мы»: «За тебя на черта рад, <я> / Наша матушка Россия! / Пусть французишки гнилые / К нам пожалуют назад. <мы>» («Песня») [10, с. 18].
Начиная с 1815 года в лирике Дениса Давыдова образ гусара фразеологически «демократизуется» – герой начинает называть себя «партизаном» и даже «солдатом». Однако «Я-солдат» лирики Давыдова равен «Я-гусару», «разжалования» героя не происходит. Это все тот же характер. Такое переименование связано с тем, что для героя Давыдова военная иерархия и чин не имеют никакого значения: между «солдатом» и гусаром нет никакой разницы. Высокое же звание может упоминаться только иронически: «Пусть я буду генералом, / Каких много видел я! / Пусть среди кровавых боев / Буду бледен, боязлив, / А в собрании героев / Остр, отважен, говорлив» («Бурцову») [Там же, с. 12].
Герой давыдовской песни никогда не оказывается выше своих товарищей: они братья и равны между собой.
Однако такой герой имеет очень мало общих черт с реальными буянами первой половины XIX века. Это видно в «Выстреле» Пушкина.
В повести Пушкина «Выстрел» ссылка на давыдовскую лирику делается дважды. Первый раз в рассказе Сильвио: «Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым » [8, с. 69]. Второй способ обращения к претексту менее явен, однако от этого не менее бесспорен: одним из эпиграфов к произведению является фраза из рассказа А. А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке», который, в свою очередь, предваряет эпиграф из стихотворения Дениса Давыдова «Песня старого гусара». Таким образом, гусарская тема в тексте Пушкина дана в своей соотнесенности с лирической системой Давыдова, что позволяет нам рассматривать «Выстрел», учитывая мотивику гусарских песен.
В пушкинской повести можно наблюдать немалое количество мотивов, которые являются определяющими для лирики Давыдова. В самом начале текста заявлен мотив гусара (Сильвио был гусар) и связанные с ним мотивы домишка Сильвио («бедная мазанка»), пира (у Сильвио «шампанское лилось рекой»), товарища / друга («Я вас люблю», – говорит Сильвио герою-повествователю).
В произведении указанные мотивы претерпевают кардинальное изменение. В рассказе Сильвио о своем гусарском прошлом появляются два особенно важных для гусарской лирики мотива – пьянства (Сильвио «перепил Бурцова») и проказ (Сильвио «был первым буяном по армии»). Однако обращает на себя внимание, что ни пьянство, ни буянство не самоценны (как в лирике Давыдова). Пьянство и проказы подчинены другой страсти Сильвио – страсти первенствовать, преумножать славу. Не случайно для него важно именно перепить Бурцова (а не пировать с ним), быть первым буяном (а не просто гусаром-проказником): «Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. <…> Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло (выделено мной. – К. Х.)» [Там же].
Итак, Сильвио предстает гусаром, но не тем, образ которого создал Денис Давыдов и традиция гусарской песни.
Граф же характеризуется следующим образом: «Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились» [Там же].
Из приведенных характеристик особенно важной, как нам представляется, оказывается веселость . Мотив веселья сопутствует не Сильвио, а его сопернику. Это неудивительно, ведь Сильвио, как можно судить из текста, не наделен этим чувством. Более того, он признается: «Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее : он шутил, а я злобствовал (выделено мой. – К. Х .)» [Там же].
Обида Сильвио на способность графа комически воспринимать жизнь, обида на само веселье явно слышны в сцене второй дуэли героев: «Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите ?» – «Он всегда шутит , графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить ... (выделено мной. – К. Х .) » [Там же, с. 74].
Как видим, Сильвио отрицательно воспринимает шутку и смех, для него «пошутить» оказывается синонимом слова «унизить» или даже «лишить жизни» (как в конце цитаты). Веселость и беззаботность графа контрастирует с завистью Сильвио. Такая веселость – одна из основных черт давыдовского гусара. Он борется со страхом смерти, эпикурейски побеждает смерть отрицанием ее бытийности и событийности. Эта победа возможна только с помощью веселья и бесшабашности «шалунов». Именно поэтому веселость героя – не просто его признак, а скорее неотъемлемое свойство. Без нее нет гусара, потому что без нее невозможно ежедневно с бесстрашием глядеть в глаза смерти.
Без веселости и беспечности, которым так завидует Сильвио, граф не сумел бы равнодушно стоять перед дулом пистолета ненавидящего врага, завтракая черешнями. Можно с уверенностью сказать, что поведение и мировосприятие графа отвечают идеалу образа гусара, созданного и воспетого Денисом Давыдовым. Таким образом, гусаром «по Давыдову» оказывается именно граф, тогда как Сильвио – «антидавыдовский» гусар.
Таким образом, мы предполагаем, что Денис Давыдов создает своего гусара, который противопоставляется реальному бретеру, картежнику и «забияке». Если для реального исторического буяна поступок – абсолютная ценность, то для героя Давыдова ценными оказываются равенство гусарского братства и защита Родины.
Создавая этого нового героя, героя литературного, Денис Давыдов приглашает «реального» «ёру» Толстого-Американца в мир своей лирики, предлагая ему измениться, стать другим: «Прошу тебя забыть / Нахальную уловку, / И крепс, и понтировку, / И страсть людей губить» («Болтун красноречивый…» 1815) [9, с. 65]. Именно это гусарское миропонимание выражает поручик Ржевский в пьесе Гладкова «Давным-давно», когда говорит: «Знай, равенство везде, где звон гусарских шпор» [4, с. 40].
Ненормативным поведением в России первой трети XIX века отличались дворяне, в основном военные, независимо от войсковой принадлежности. Подобное поведение со временем исчезает из реальной практики, однако остается в качестве одной из ярчайших характеристик «века богатырей» русской истории. В период процветания кутежей и буянства Давыдов создает своего лирического героя – идеального гусара, проказы которого подразумевают анакреонтические возлияния, чувство братства и храбрость в ратном деле, а не бретерство и картеж-ничество, жажду стать легендой. Давыдовский гусар оказывается выделенным из ряда остальных военных рассматриваемого периода истории, в связи с чем становится лучшим представителем века, а литературная модель гусарства превращается в одно из самых заметных его явлений. Если для человека 1810-х годов ясна разность между модальностью гусара давыдовской лирики и модальностью буянов, то в следующих десятилетиях модальности различаются все меньше, важна отличность, особость героя. Разгульное офицерское поведение и гусарство уже к концу 1830-х сближаются: теперь носителем данного типа поведения становится именно гусар, и никто иной.
Список литературы Человек буянящий: разгульное поведение в первой трети XIX века и литературный контекст (лирика Д. В. Давыдова, "Выстрел" А. С. Пушкина)
- Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб.: Типогр. Н. Триблена и Комп., 1861. 387 с.
- Власова З. И. Декабристы в неизданных мемуарах А. И. Штукенберга//Литературное наследие декабристов. Л., 1975. 354-369.
- Востриков А. В. Книга о русской дуэли. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 352 с.
- Гладков А. К. Давным-давно: пьесы. М.: Сов. писатель. 1978. 535 с.
- Липранди И. П. Замечания на «Воспоминания» Ф. Ф. Вигеля М.: Имп. Об-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1873. 194 с.
- Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни//Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII -начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. С. 164-190.
- Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. 279 с.
- Пушкин А. С. Полное собр. соч.: в 16 т. Т. 8. Кн. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 496 с.
- Русская старина: Т. 5. СПб.: Печатня В. И. Головина, 1872. 1032 с.
- Сочинения Давыдова Дениса Васильевича. СПб.: А. Смирдин, 1848. 640 с.
- Ульянов И. С. Заметки//Русский архив. 1868. Вып. 6. С. 554-557.
- Филин М. Д. Толстой-Американец. М.: Молодая гвардия, 2010. 315.
- Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. «Повести Белкина» и «Пиковая дама». СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. университета, 2013. 354 с.
- Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М.: Худож. лит., 1979. 422 с.