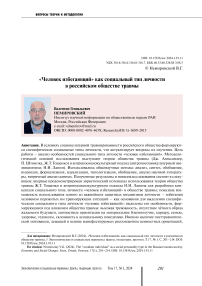«Человек избегающий» как социальный тип личности в российском обществе травмы
Автор: Немировский В.Г.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Вопросы теории и методологии
Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
В условиях социокультурной травмированности российского общества формируются специфические социальные типы личности, что актуализирует вопросы их изучения. Цель работы - анализ особенностей социального типа личности «человек избегающий». Методологической основой исследования выступают теории общества травмы (Дж. Александер, П. Штомпка, Ж.Т. Тощенко) и антропосоциокультурный подход (антропосоциокультурный эволюционизм; Н.И. Лапин). Использовались общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, индукция, формализация, идеализация, типологизация, обобщение, анализ научной литературы, вторичный анализ данных. Полученные результаты и новизна исследования состоят в следующем: впервые продемонстрирован эвристический потенциал использования теории общества травмы Ж.Т. Тощенко и антропосоциокультурного подхода Н.И. Лапина для разработки концепции социального типа личности «человек избегающий» в обществе травмы; показана возможность использования одного из важнейших защитных механизмов личности - избегания человеком пережитых им травмирующих ситуаций - как основания для выделения специфического социального типа личности «человек избегающий»; выделены его особенности, формирующиеся под влиянием общества травмы: высокая тревожность, отсутствие чёткого образа желаемого будущего, ценностные ориентации на материальное благополучие, карьеру, семью, здоровье, гедонизм, склонность к асоциальному поведению. Именно наличие посттравматической мотивации, лежащей в основе манифестируемых респондентом ценностных ориентаций, выступает критерием отнесения личности к данному социальному типу. Результаты исследования могут быть использованы для развития социологических теорий личности, социологии культуры, социологии управления, социологии социальных изменений. Практическое значение имеет изучение распределения данного типа личности в различных социальных группах, стратах и регионах страны. Одним из важных направлений будущих исследований выступает анализ влияния представителей данного типа личности на социальные процессы, происходящие в российском обществе.
Антропосоциокультурный подход, теория общества травмы, Россия как общество травмы, социальный тип личности, «человек самореализующийся»
Короткий адрес: https://sciup.org/147243370
IDR: 147243370 | УДК: 316.4:316.6:316.61:316.7 | DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.11
Текст научной статьи «Человек избегающий» как социальный тип личности в российском обществе травмы
Актуальность исследования определяется важностью научного осмысления влияния интенсивной социокультурной турбулентности, происходящей как в России, так и вне её, на людей, живущих в нашей стране. Социокультурные и психологические последствия эпидемии СOVID-19, проведения специальной военной операции и внешних экономических санкций носят мощный травматогенный характер. Перед отечественной социологией стоит целый комплекс задач по изучению последствий глубоких, подчас катастрофических, социальных изменений, с которыми Россия столкнулась не только в последние три с половиной десятилетия, но и на протяжении всего периода XX–XXI вв. Их результаты многообразны и далеко не всегда позитивно сказываются на ценностных ориентациях и других внутренних феноменах, лежащих в основе социальных типов личности россиян.
В социальных типах личности, которые формируются в том или ином обществе, концентрированно выражаются его основные черты, достоинства и недостатки, проявляются тенденции общественного развития, как положительные, так и негативные. Без учёта их представленности в различных социальных группах невозможно эффективное осуществление государственного управления на всех уровнях.
Актуализация этих вопросов также связана с возрастанием общественной потребности в человеческом измерении процессов, изучаемых социологией (Тощенко, 2012, с. 25). «Особую значимость среди новых явлений общественного сознания на современном этапе развития российского общества приобрела его травмированность, выражающаяся в расколе, раздвоении, противоречивости конфликтности развития...» (Тощенко, 2015, с. 37).
Новая трактовка современной России как общества травмы требует обращения к анализу последствий такого состояния в человеческом аспекте, с социологических позиций – это, в частности, подробный анализ существующих социальных типов личности, ибо далеко не все из них исследованы достаточно подробно. При этом в изучении типов личности, которые обусловлены спецификой России, присущими ей как обществу травмы, на наш взгляд, существуют некоторые «белые пятна». В последнее десятилетие в актуальной социологической повестке весьма редко встречается анализ социальных типов личности современного российского общества, тем более в свете концепции общества травмы.
Под социальными типами личности в данной статье мы понимаем такие её типы, которые имманентны всему обществу травмы, независимо от социальной принадлежности индивида (разумеется, их распространённость в различных социальных слоях и группах неодинакова, однако изучение этого вопроса требует проведения специальных эмпирических исследований и выходит за рамки нашей статьи). Отсюда вытекает цель нашего исследования – проанализировать особенности социального типа личности «человек избегающий» в российском обществе травмы.
Проблема исследования: противоречие между результатами многочисленных исследований, согласно которым у людей, живущих в обществе травмы, действуют личностные защитные механизмы, влияющие на их ценностные ориентации и социальное поведение, с одной стороны, и отсутствием социологической интер претации этой информации в контексте формирования специфического социального типа личности.
Предмет исследования – особенности социального типа личности «человек избегающий» в российском обществе травмы. Объект исследования – социальные типы личности, формирующиеся в современной России в контексте её принадлежности к обществам травмы.
Методология исследования
Методологической основой работы выступают теории общества травмы (Дж. Александер, П. Штомпка, Ж.Т. Тощенко) и антропосоцио-культурный подход (антропосоциокультурный эволюционизм; Н.И. Лапин).
Концепт «общество травмы» в последние десятилетия стал уже привычным в среде социологов: «Собственно теории травмы, применяемые к анализу социетальных и социальных реалий, появились в конце XX – начале XXI в., что их авторы связали с нелинейным развитием социума» (Кравченко, 2020, с. 61). К числу этих учёных следует отнести Дж. Александера и П. Штомпку, на работы которых (как и ряда других зарубежных и отечественных социологов) опирается макросоциологический подход Ж.Т. Тощенко, согласно которому происходящие в мире изменения становится всё сложнее описывать с помощью категорий «эволюция» и «революция»; автор вводит понятие «общество травмы», подробно описывая его отличительные особенности (Тощенко, 2020). В соответствии с его новаторским тезисом «путь, по которому продвигается современная Россия, следует назвать путем, обусловленным социальной травмой в ее развитии» (Тощенко, 2020, с. 11).
В контексте цели нашего исследования важным представляется сформулированное Ж.Т. Тощенко положение, в соответствии с которым «в обществах травмы велико влияние эгоистических и групповых интересов» (Тощенко, 2020, с. 55). Логичен его вывод: «Травму России нанесли те группы, которые по недоразумению называют элитой» (Тощен-ко, 2020, с. 60).
В настоящей статье мы опираемся на антропосоциокультурный подход (антропо-социокультурный эволюционизм), созданный Н.И. Лапиным (Лапин, 2018). Учёный использует понятие «общество травмы» применительно к России, анализируя факторы, порождаю- щие травмы как у населения страны в целом, так и у жителей различных регионов (Лапин, 2021а).
Следует отметить, что в отличие от Ж.Т. То-щенко Н.И. Лапин рассматривает «процесс травмирования» российского общества в более широком временном диапазоне, начиная от истоков российской государственности. Согласно его суждению, основной источник травмы «…– это государство. Следовательно, мы имеем общество, травмируемое его государством»1.
В одном из своих последних докладов Н.И. Лапин отмечает: «Синтезирующий характер идентификации индивида с множеством других членов данного общества означает его идентификацию, или выбор стратегии взаимодействий с обществом , в котором он существует и с членами которого взаимодействует. Это – базовое взаимодействие людей. Смыслы этих обобщенных взаимодействий предлагаю характеризовать как гражданско-общественную культуру массовых взаимодействий населения с обществом как целым, которая влияет на различные виды деятельности людей. Имеются разные типы этой культуры, со своими своеобразиями в каждой цивилизации, обществе-стране» (Лапин, 2021b, с. 5–6).
Вводя понятие «гражданско-общественной культуры», Н.И. Лапин характеризует далее её как «… рутинную, симбиозно-травмогенную » (выделено Н.И. Лапиным – В.Н.), определяя в качестве источника культурных травм (Лапин, 2021b, с. 5).
Учёный делает вывод: «Результатами такой культуры стали многие социокультурные травмы населения, общества, государства, которые создавали и продолжают создавать опасные риски для существования России и угрозы для успешных ее ответов на новые большие вызовы» (Лапин, 2021b, с. 6).
Таким образом, приведённые выше труды видных российских учёных ориентируют нас на анализ современного российского общества как «общества травмы», которому присущи серьёзные конфликты и противоречия; одним из их основных источников выступает «рутинная симбиозно-травмогенная» культура, связанная с характером идентификации людей, взаимодействия между социальными группами и индивидами.
Подчеркнём, что анализ социальных типов личности невозможен без обращения к междисциплинарному подходу. Как справедливо отмечает С.А. Кравченко, в настоящее время «…возникает иной тип междисциплинарности, предполагающей возможность суммировать и использовать результаты отдельно взятых монодисциплин; его можно назвать результирующей междисциплинарностью» (Кравченко, 2020b, с. 19). Соответственно, широко используется такой метод, как вторичный анализ данных социологических и психологических исследований.
Обзор литературы
Разработка и изучение различных социальных типологий (в т. ч. и личности) является одним важных направлений современной социологии. Например, данная тема детально рассмотрена в монографии известных российских авторов (Типологический анализ…, 2023). В наиболее широком смысле социальным типом личности можно назвать устойчивую совокупность признаков, характеризующих её как представителя определённой социальной общности в конкретную эпоху (Немировский, Не-вирко, 2008).
Исследованию социальных типов личности, которые существуют в современной России, посвящено немало публикаций. Однако присутствует тенденция к «повторению пройденного». Например, в социологической литературе продолжается начатое в 90-х годах обсуждение соотношения среди населения страны групп с ориентациями, которые порождены ещё советской эпохой, с одной стороны, и «рыночнодемократическими» чертами личности – с другой, а также их роли в общественной жизни.
Существуют разнообразные, ставшие классическими, типологии личности, основанные на философских, социологических, психологических, социально-антропологических теориях (А. Адлер, Р. Дарендорф, А. Кардинер, А. Маслоу, Р.К. Мертон, Дж. Мид, Э.Д. Рисмен, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Шпрангер, К.Г. Юнг и др.). Многие из используемых в социологии типологий личности носят комбинированный, междисциплинарный характер.
Рассматривая отечественную традицию исследований этого вопроса, нельзя не упомянуть известную работу Г.Л. Смирнова, которая стала своего рода нормативным ориентиром для авторов, изучавших социалистическую действительность в 1970-е – 1980-е годы (Смирнов, 1971). Впоследствии значимый вклад в понимание сущности социального типа личности, сформировавшейся в социалистическом обществе, внёс Ю.А. Левада, исследования которого не потеряли своей актуальности до настоящего времени (Левада, 1995).
В современной российской социологической литературе практически общепризнанно, что существующая в обществе социальная типология личности в первую очередь отражает его социальную сущность: «Социально-характерологические черты личности … обусловлены системой общественных отношений, особенностями культуры, положением индивидов в социальной структуре общества»2.
Вместе с тем некоторые научные публикации на эту тему страдают умозрительностью. Например, Г.И. Колесникова, опираясь на концепцию цивилизационных типов личности П. Сорокина, логично выделяет три социальных типа: восточный (созерцательный), западный (рациональный), российский (эмоциональный), указывая, что «…в современном российском обществе одновременно сосуществуют два социальных подтипа личности: ориентированный на традиционные ценности и с доминантой к ценностям западным» (Колесникова, 2018, с. 45). При этом данная типология, на наш взгляд, не учитывает всю сложность палитры социальных типов современного российского общества, игнорируя происходящие в нём противоречивые процессы, в т. ч. его социокультурную «травмированность».
Другим примером является известная модель, автор которой, выделяя семь социальных типов личности, полагает, что «…для простоты можно ограничиться четырьмя типами: гармоничный деятель, эгодеятель, служитель и игрок». В эту синтетическую типологию включён также критерий «осознанности»: «Основные социальные типы личности способны эволюционировать в зависимости от осознанности собственной деятельности и нравственного выбора» (Смирнов, 2011, с. 117). Обладая определённой научной логичностью, авторские построения слабо связаны как с действительностью, в котором мы живём, так и с практикой социологических исследований, ибо их эмпирическая интерпретация крайне затруднительна, если вообще возможна.
Опираясь на теорию общества травмы, разработанную Ж.Т. Тощенко, Ю.Г. Волков анализирует объективные процессы и события в жизни российского общества, послужившие факторами формирования социокультурных травм. По его мнению, наиболее масштабные из них носят зачастую геополитический характер (Волков, 2022). Автор высказывает справедливый тезис: «Социальные и культурные травмы препятствуют и формированию креативного типа личности…», «… Сформировать такую личность под гнетом травматичных представлений и образов, вне здоровых горизонтальных социальных связей, атмосферы взаимного доверия, в ситуации острого социального и имущественного неравенства просто невозможно» (Волков, 2022, с. 21).
Однако в отечественной социологической литературе в целом отсутствует анализ специфических особенностей социального типа личности, характерного для общества травмы.
При этом в российской психологической науке опубликован ряд исследований, посвящённых развитию личности в травмирующей ситуации. Так, в статье А.И. Красило анализируется индивидуально-общественная форма психологической травмы (Красило, 2021). Представители этой науки активно рассматривают влияние травматического опыта пандемии COVID-19 на психоэмоциональное состояние и другие психологические особенности людей (Исаева, Сутаева, 2021; Нестик, Журавлёв, 2021) и др. Целый ряд публикаций посвящён травматизации личности в процессе военных конфликтов (Бойко, Новикова, 2019), их влиянию на психологическое состояние общества (Нестик, 2023). Хотя в них не идёт речь о социальных типах личности, полученные данные целесообразно учитывать при анализе социально-психологических механизмов формирования типа личности «человек избегающий».
Вместе с тем нельзя не учитывать, что существует широкий круг англоязычных публикаций, в которых анализируется влияние разного рода социокультурных травм (в т. ч. исторических, психологических) с позиций социологии и смежных научных дисциплин на те или иные личностные конструкты.
На наш взгляд, ключевым для понимания специфики социальных типов личности в обществах травмы выступает понятие «комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (комплексное ПТСР)»; согласно определению, сформулированному авторами статьи, опубликованной авторитетным научным журналом «The Lancet», это «тяжелое психическое расстройство, возникающее в ответ на травмирующие жизненные события. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется тремя основными кластерами посттравматических симптомов, а также хроническими и распространенными нарушениями регуляции эмоций, идентичности и взаимоотношений» (Maercker et al., 2022).
Так, на основании метаанализа и данных 19 исследований (5971 человек) была установлена связь всех черт темперамента с симптомами посттравматического стрессового расстройства независимо от пола людей, типа исследования, типа травмы, показателя темперамента и времени, прошедшего после травмы (Cyniak-Cieciura, Zawadzki, 2021).
В последние годы опубликованы результаты междисциплинарных эмпирических исследований, которые посвящены анализу изменений, возникающих в личности под влиянием различных видов социокультурных травм, например межпоколенческой культурной травмы, связанной с геноцидом армян (Mangassarian, 2016). Изучаются также посттравматический стресс, готовность к прощению и смысл жизни «у жителей регионов, переживающих продолжающееся насилие (Ближний Восток), насилие в недавнем прошлом (Африка), насилие и бедствия в далеком прошлом (Кавказ) и недавние стихийные бедствия (Карибский бассейн) (Tummala-Narra, 2022) и др. Характерно, что в некоторых междисциплинарных исследованиях травма рассматривается как коллективное заболевание и первопричина затяжных социальных конфликтов (см., например, Rinker, Lawler,
2018 и др.). По мнению A.M. Subica и B.G. Link, «после культурной травмы пострадавшие группы оказываются в социально невыгодном по ложении и подвергаются всепроникающему стрессу, стигматизации и ограничению ресурсов, что закрепляет неравенство в отношении здоровья». Соответственно, культурная травма может представлять собой неизученную фундаментальную причину социального неравенства в отношении здоровья (Subica, Link, 2022).
В последние годы нередко делается акцент на путях преодоления последствий социокультурных травм для человека. Например, T. Glebova, С. Knudson-Martin проанализировали проблему влияния социокультурной травмы на личность человека в контексте несправедливости, связанной с тоталитаризмом, войной и сопутствующими лишениями, рассмотрев в данном контексте практические способы преодоления таких травм (Glebova, Knudson-Martin, 2023).
Рассматриваются также результаты социокультурных травм в современной России и некоторых других постсоветских странах. В частности, E.V. Miskova на основе автоэтногра-фической методологии изучала последствия исторических и культурных травм, пережитых за последнее столетие несколькими поколениями семей в России. К подобным событиям автор относит «войны, репрессии и радикальные социально-экономические и политические изменения, произошедшие за последние три десятилетия после распада Советского Союза». В статье показаны способы преодоления старых травм и внутренних конфликтов в контексте вызванных ими текущих социальных проблем, таких «как низкое институциональное и межличностное доверие, гендерное и поколенческое неравенство, а также коллективные эмоциональные процессы отрицания, потери и вины» (Miskova, 2023, р. 31).
Опираясь на результаты опросов, проведённых «в октябре и ноябре 2014 г., до начала студенческих протестов и Евромайдана в Украине» (Dlugosz et al., 2020, p. 18) по репрезентативным выборкам в постсоветских странах, относящихся к «обществам травмы»: России (N = 992), Беларуси (N = 1034), Молдове (N = 970) и Украине (N = 1000), польский исследователь установил, что адаптации людей к изменениям в постсоветских обществах способствует мо- лодой возраст. Молодое поколение имело более высокий уровень счастья, лучше оценивало свое материальное положение, свое положение в социальной иерархии и перспективы на будущее. Наиболее высокий уровень удовлетворенности демократией отмечен в Беларуси и России. «Россияне и белорусы, а затем молдаване расположились на высоких позициях в континууме адаптации к социальным изменениям, а украинцам удалось адаптироваться к системе в самой низкой степени» (Dlugosz et al., 2020, р. 9). Кыргызстан, включённый в последние десятилетия в сложные переходные процессы, также является «обществом травмы», что «отражается на особенностях массового сознания и личности» (Сорочайкина, 2020, с. 116).
В целом исследования различных авторов показывают, что в обществе травмы, существующем в разных странах мира (и российский социум не является исключением), складываются существенно искажённые типы личности.
Результаты исследования
Логично возникает вопрос о специфике социальных типов личности, формирующихся в обществе травмы. Традиционно одним из основных критериев социальной типологизации личности выступают ее ценностные ориентации. Следует согласиться с мнением, согласно которому «социальный тип личности зависит от того, каков сам социум, и в особенности – каковы его приоритетные ценности» (Волков, 2021, с. 18). При этом именно они в социологии являются важными индикаторами последствия травмированности общества (разумеется, можно говорить также о потребностях, разного рода эмоциональных феноменах, как, впрочем, и о самом социальном поведении человека).
В социологических исследованиях обычно определяется ценность, к реализации которой стремится респондент. Думается, что представление о том, что мотивация социального поведения может быть основана только на стремлении к реализации тех или иных ценностей, является несколько упрощённым. Оно не учитывает существование значительного спектра поведенческих мотиваций, основанных не на стремлении к реализации социальной ценности, а опирающихся на избегание возможного повторения каких-либо негативных травмирующих человека событий и их последствий. Череда социокультурных травм и катастроф:
война в Афганистане, развал Советского Союза, боевые действия в «горячих точках» на границах страны, две Чеченские войны, война в Грузии (2008 г.), боевые действия на Донбассе, пандемия COVID-19, СВО породили в стране интенсивную социокультурную турбулентность. Широкое распространение получили состояния аномии, эксклюзии, стресса, фрустрации, депривации и связанная с ними посттравматическая мотивация , в наиболее общем виде основанная на стремлении человека избежать повторения травмирующей ситуации и её последствий.
Соответственно, в обществе травмы можно выделить два вида социальной мотивации, которые лежат в основе соответствующих типов личности: а) направленную на самореализацию и б) посттравматическую, вытекающую из желания избежать повторения травмирующей ситуации.
Первый из них включает ориентации на любые ценности, которые рассматриваются человеком как способ самореализации. Это могут быть, например, творчество, профессиональная деятельность, семья и т. п. Логично определить такой тип как « человек самореализующийся ».
При этом общество травмы массово порождает социальный тип личности, в основе поведения которого лежит стремление под действием механизма психологической защиты избежать повторения пережитых разнообразных социокультурных, психологических травм, любого негативного жизненного опыта (и его последствий), полученного не только в период социализации, но и в любой последующий период жизни человека3. Соответственно, это «человек избегающий». О принадлежности к нему могут свидетельствовать, например, ориентации на ценности «власть», «безопасность» или «свобода», «богатство», которые в той или иной мере отражают испытываемый человеком дефицит ощущения безопасности. Так, в основе ориентации на богатство часто лежит стремление избежать повторения негативных переживаний, порождённых уже испытанными (или увиденными) когда-либо нищетой или бедностью. Стремление человека к власти в большинстве случаев выражается в реализации травмированного чувства безопасности. Если в процессе социализации (чаще на ранних стадиях) человек утрачивал контроль над собственной жизнью, в дальнейшем он пытается обрести максимум власти над окружающими людьми любыми способами. Соответственно, её достижение выступает средством избегания негативных переживаний, которые проявляются в таких хорошо регистрируемых социологическими методами феноменах, как тревожность, разного рода социальные страхи и риски. Компаративный анализ данных, полученных в России в целом и нескольких её регионах по методике, разработанной под руководством Н.И. Лапина, показал, что любые социальные страхи выступают мощным фактором социокультурных деформаций таких важных характеристик жизненного мира человека, как локус контроля, степень пессимизма/опти-мизма и удовлетворённость жизнью (Немировский и др., 2018). Одним из важных показателей травмированности российского общества является состояние тревожности, о чём свидетельствуют различные опросы жителей страны4. Сказанное относится и к депрессивным состояниям. Опрос, проведенный Институтом психологии РАН совместно с ВЦИОМ в сентябре 2023 года, показал, что клинический (выделено мною – В.Н.)
уровень симптоматики депрессии на основе самоотчётов присутствует у 32%, тревоги — у 18% респондентов5. При этом существует социальная дифференциация в проявлении этих состояний, что, по нашему мнению, прямо свидетельствует о принадлежности носителей социального типа «человек избегающий» к конкретным общественным группам: «В целом мониторинговые исследования Института психологии РАН в 2020–2023 годах … показывают, что в условиях кризисов наиболее подвержены тревожно-депрессивным состояниям представители молодежи в возрасте 18–24 лет, женщины, респонденты с низким уровнем доходов, люди с высшим образованием и работники частного сектора»6. Именно наличие посттравматической мотивации (или её отсутствие), лежащей в основе манифестируемых респондентом ценностных ориентаций, выступает критерием отнесения личности к тому или иному социальному типу.
Обсуждение
Рассмотрим подробнее особенности социальных типов личности «человек избегающий» и «человек самореализующийся» . Для этого обратимся к социально-психологическим характеристикам ценностных типов, которые были получены с помощью широкого спектра известных методик: тест смысложизненных ориентаций (СЖО), самоактуализационный тест (САТ), опросник уровня субъективного контроля (УСК), опросник самоотношения (ОСО), 16-факторный личностный опросник (16PF), миннесотский многоаспектный личностный опросник (MMPI) и др. (Яницкий, 2020). Данным автором были использованы различные случайные и неслучайные выборки; в целом число респондентов составило около 10 000 человек.
С помощью кластерного анализа выделены три психологических типа, которые представляют собой различные системы ценностных ориентаций: «адаптирующийся» тип (ориентации: здоровье, материальная обеспеченность,
«свобода от», развлечения) – 29% респондентов, «социализирующийся» тип (соответственно, семья, карьера, общественное признание) – 46% и «индивидуализирующийся» тип (самореализация, творчество, «свобода для», терпимость) – 25%. При этом для представителей «адаптирующегося» типа характерны высокая тревожность и фрустрационная напряженность; «социализирующемуся» присущи конформность, зависимость и экстернальность; «индивидуализирующийся» тип имеет такие особенности, как высокая осмысленность жизни, интернальность и позитивная Я-концепция (Яницкий, 2020, с. 197).
Судя по приведённым психологическим особенностям, образующим ценностные ориентации, социальный тип личности «человек избегающий» манифестируется через «адаптирующийся» и «социализирующийся» типы ценностных ориентаций, «человек самореализующийся» – «индивидуализирующийся». Отметим, что в нашем обществе не столь много людей, избежавших социокультурной (психологической) травматизации как в процессе ранней социализации, так и в своей последующей жизни. Поэтому при эмпирическом анализе доля представителей типа «человек избегающий» в большинстве случаев всегда будет больше, чем доля носителей типа «человек реализующийся» ; не случайно данный социальный тип описывается характеристиками двух указанных выше ценностных кластеров (в совокупности составляющих 75% респондентов).
Основываясь на приведённых в цитируемой работе данных (а также ряде предшествующих публикаций М.С. Яницкого и его коллег), где используется опросник временной перспективы (ZTPI) и методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ), можно сделать вывод, что носители социального типа «человек избегающий» склонны, часто неосознанно, отвергать своё прошлое и настоящее, а зачастую и будущее. Напротив, социальный тип «человек самореализующийся» , как правило, высоко оценивает свое прошлое. Между тем осмысленность «прошлого является наиболее важным для благоприятного переживания последствий перенесенного стресса…» (Яницкий, 2020), под перманентным воздействием которого находится «человек избегающий».
На основе эмпирических исследований было выявлено, что «адаптирующийся» тип в перспективе ориентирован на высокий доход, карьеру и создание семьи; «социализирующийся» – на высокий доход, карьеру и образование; «индивидуализирующийся» – на образование, самосовершенствование и творчество (Яниц-кий, 2020).
К психологическим особенностям регуляции социального поведения представителей адаптирующегося ценностного типа относится мотивация, основанная на страхе, следование нормам, чтобы избежать наказания. Антисоциальное поведение не является неприемлемым и может реализоваться, если риск разоблачения оценивается как невысокий. Для представителей «социализирующегося» типа базовым механизмом социального контроля является стыд, следование принятым в группе нормам, чтобы избежать осуждения со стороны значимых других. Если в качестве референтной выступает асоциальная или антисоциальная группа, то высока вероятность девиантного и делинквентного поведения. Напротив, «индивидуализирующийся» тип обладает внутренней регуляцией поведения, ин-тернализованностью социальных норм. Основным механизмом регуляции поведения выступает вина, следование принятым нормам и правилам (Яницкий, 2020, с. 199).
К важным особенностям поведения в экономической сфере у «адаптирующегося» типа относится приоритет материального благополучия. Типично ощущение нехватки денег, приемлемы незаконные способы обогащения. Деньги и собственность воспринимаются как источник благосостояния и удовольствий. У представителей «социализирующегося» типа материальное благополучие ассоциируется с высоким социальным статусом. Характерна подверженность рекламе. Типична ориентация на приобретение дорогих и престижных вещей. В отличие от двух предшествующих, для представителей «индивидуализирующегося» типа материальная обеспеченность носит инструментальный характер, выступая средством, прежде всего получения образования и саморазвития. Деньги ассоциируются со свободой и с возможностью самореализации (Яницкий, 2020).
Согласно результатам опроса, проведённого ВЦИОМ в декабре 2022 года по выборке, репрезентирующей население РФ в возрасте от 14 до 35 лет, в массовом сознании молодёжи с большим отрывом доминируют две ориентации: «высокий уровень благополучия» (58%) и «жить спокойно, работая и заботясь о семье» (54%)7.
Как видим, на основе своих жизненных ориентиров большинство представителей современной российской молодёжи могут быть отнесены к типу «человек избегающий» .
Дети-сироты, проживающие в различных государственных учреждениях, относятся к одной из социальных групп, находящихся в состоянии социокультурной и психологической травмированности, стойкой фрустрации и экс-клюзии. По сути, это своеобразная «микромодель» общества травмы. Логично полагать, что среди них преобладает социальный тип личности «человек избегающий».
Психологическое исследование, проведённое среди этой категории подростков (использовались методики М. Рокича «Терминальные и инструментальные ценности», а также метод ассоциаций), показало, что в целом высокозначимыми ценностями у них являются «любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, удовольствия» (Яковлева, 2021). Причём наиболее высокий ранг они присвоили терминальной ценности «материально обеспеченная жизнь» – 96%.
Только у 12% сирот есть осмысленные цели, имеющие временную перспективу. На фоне низкого общего показателя осмысленности жизни это может означать прожектерство, при котором цели не подкреплены готовностью нести ответственность за их реализацию. У 36% сирот цели ограничены актуальным настоящим, иными словами, они живут заботами сегодняшнего дня (Яковлева, 2021, с. 123).
Эти данные чётко корреспондируют с результатами исследований, проведённых среди населения России по репрезентативной выборке ( n = 700), согласно которым половина «населения не имеет явной цели и воплощаемого образа собственного будущего» (Карачаровский, Шкаратан, 2019, с. 8). У тех же, кто сформулировал свои жизненные цели, «доминирует вопрос улучшения жилищных условий, связанный с задачами преумножения недвижимого имущества» (Карачаровский, Шкара-тан, 2019, с. 9). Между тем в психологическом плане ориентация на ценность «жилище» во многом является манифестацией внутренней тревожности человека и его неудовлетворённой потребности в безопасности.
Отсюда логично вытекает вывод, что в российском обществе травмы преобладает социальный тип личности «человек избегающий». Одной из его характеристик является склонность к страданию, высокая тревожность. В исследовании А.А. Мироновой и А.Н. Татар-ко использовались данные Шестой волны Всемирного обзора ценностей (World Value Survey). Были отобраны три группы стран (всего 15) на основе индекса восприятия коррупции: с низким, средним и высоким уровнем коррупции (в числе последних – Россия). Анализ проводился с использованием моделирования структурными уравнениями. Выявлено, что уровень страдания, измеренный через показатели тревожности (макро- и микротревоги), имеет существенную взаимосвязь с приемлемостью коррупции (Миронова, Татарко, 2021). Соответственно, одним из последствий широкой распространённости этого социального типа личности в современной России является малоэффективная борьба с коррупцией.
С целью эффективного анализа социальных типов личности, существующих в современной России, целесообразно расширить спектр используемых сегодня для этого теоретико-методологических оснований. Так, анализ состояния антиномичности общественного сознания постсоветской России, сосуществование в нём практически по всем направлениям двух взаимоисключающих друг друга позиций, которые в одинаковой мере (или примерно в одинаковой пропорции) претендуют на истинность (Тощенко, 2015, с. 17, 39), требует применения соответствующих подходов. Ю.М. Пасовец показала возможности использования двухчленной политомии как эффективного методического инструмента социологического иссле- дования (Пасовец, 2023). К сожалению, она обошла вниманием применение китайского принципа «инь-ян», что было бы логично, поскольку выражает, в том числе, использование политомии. Данный принцип позволяет использовать альтернативные дискурсы для различных интерпретаций значения социальных явлений и процессов8.
Очевидно, было бы логично опираться на методологический подход инь-ян также потому, что он, по мнению D. Chimenson et al., позволяет более адекватно отразить глубокие сложности русской культуры. С учетом материалов представительных кросс-культурных исследований авторы обосновано доказывают, что «существующие исследования российской культуры с использованием доминирующей многомерной теории культуры (например, Хофстеде) не в состоянии уловить динамику культурных ценностей, проявляющихся в российском бизнесе и обществе» (Chimenson et al., 2022). Данные выводы прямо корреспондируют с важным методологическим тезисом, сформулированным Ж.Т. Тощенко: «Россия представляет собой травмированное общество, которому присущи противоречивые, взаимоисключающие ориентации и установки» (Тощенко, 2015, с. 50).
Нельзя не обратить внимание, что в современной зарубежной социологии и смежных дисциплинах присутствует обращение к изучению и использованию китайской научной методологии, в частности принципа инь-ян. Например, D.A. Palmer поднимает вопрос о практически полном отсутствии Китая в исследованиях в качестве источника материалов для построения теоретических концепций и моделей в господствующей социологии и антропологии (Palmer, 2022). Как известно, существует конфуцианская социология, которая, по мнению L.Young-chan, может стать связующим звеном между восточноазиатской социологией, основанной на восточных идеях, и мировой социологией, которую в настоящее время возглавляет западная социология (Young-chan, 2010).
Можно назвать целый ряд исследований в сфере анализа социальных и культурных ценностей, использующих данный подход. Так, T. Fang, «опираясь на традиционную китайскую философию инь-ян, концептуализирует культуру как обладающую изначально парадоксальными ценностными ориентациями, что позволяет ей охватывать противоположные черты любого данного культурного измерения» (Fang, 2012, р. 25). К. Kyong-Dong для интерпретации значения центральных теоретических принципов социальных изменений, модернизации и развития также использует классическую восточноазиатскую диалектику инь-ян, которая, по его мнению, является одним из наиболее влиятельных направлений мысли как в конфуцианстве, так и в даосизме (Kyong-Dong, 2017). Достаточно популярен тезис, в соответствии с которым концепция инь-ян может быть рассмотрена как способ социологического объяснения, позволяющего объединить восточные и западные исследовательские подходы (Redding, 2017).
Безусловно, использование данной модели в настоящее время не является мейнстримом в современной западной социологии, однако отвергать перспективность его применения вряд ли целесообразно. Наметившийся в России геополитический «поворот на Восток» требует более внимательного отношения и к концептуальным подходам соседних стран, реализуемым в социологической науке. В целом можно констатировать, что теория общества травмы, как и концепция антропосоциокультурного (антро-посоциетального) подхода, обладает глубоким, пока не раскрытым эвристическим потенциалом (во многом связанным с возможностью междисциплинарного анализа), в т. ч. в сфере изучения формируемых им социальных типов личности.
Заключение
Перспективные направления исследований
Итак, на основании проведённого анализа можно выдвинуть теоретическое положение, согласно которому социальный тип личности выражает базовую стратегию взаимодействия человека с обществом, понятие которой предложил Н.И. Лапин. Для современной России как общества травмы характерно динамичное сосуществование двух основных типов личности: «человек избегающий» и «человек самореализующийся». К различным проявлениям типа «человек избегающий» относятся, по нашему мнению, выделенные Ж.Т. Тощенко семь фантомных типов личности на основе таких индикаторов, «как власть, капитал и слава с учетом социально-психологических особенностей личности», характерных для элитных групп общества травмы (Тощенко, 2015, с. 10–11). Судя по данным эмпирических исследований, тип личности «человек избегающий» количественно преобладает среди населения страны.
Логично предположить, что представители данного типа в силу своего стремления к средствам преодоления (вытеснения) негативных переживаний чаще будут иметь более высокий социальный и экономический статус по сравнению с теми индивидами, кто относится к типу «человек самореализующийся» .
Отметим, что указанные типы не являются единственными в палитре личностных типов современного российского общества, а дополняют уже существующие типологии, которые выделяются по иным основаниям. Соотношение типов личности «человек самореализующийся» и «человек избегающий» может служить одним из эмпирических показателей степени травмированности общества. Соответственно, области применения результатов настоящих исследований представляют собой в теоретическом плане развитие социологических теорий личности, социологии культуры, социологии управления, социологии социальных изменений. Прикладное значение авторских разработок выражается в возможности применения данной типологии в качестве средства оценки последствий травматических изменений в различные периоды времени как в одной стране, так и в разных странах мира. Немалый практический интерес имеет также дальнейшее изучение распределения подобных типов личности в различных социальных группах и классах в России.
Представляется, что указанные научные результаты могут быть положены в основу концепции «социальной типологии личности в обществе травмы».
Список литературы «Человек избегающий» как социальный тип личности в российском обществе травмы
- Бойко О.В., Новикова Н.В. (2019). Индивидуально-психологические особенности переживания личностью ситуации военного конфликта // Вестник Вятского государственного университета. №. 4. С. 94–104. DOI: 10.25730/VSU.7606.19.060
- Волков Ю.Г. (2022). Социокультурные травмы современного российского общества // Социологические исследования. № 3. С. 13–23. DOI: 10.31857/S013216250017543-0
- Волков Ю.Г. (2021). Российское общество в XXI веке: личностное измерение социального развития. М.: Русайнс, 104 с.
- Исаева Э.Г.И., Сутаева А.Р. (2021). Влияние пандемии на выбор стратегии поведения личности // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. Т. 36. № 4. С. 107–113. DOI: https://doi.org/10.21779/2542-0313-2021-36-4-107-113
- Карачаровский В.В., Шкаратан О.И. (2019). Разные цели одного общества // Социологические исследования. № 1. С. 5–17. DOI: 10.31857/S013216250003743-0
- Ковалёва А.И. (2023). Социальные и личностные последствия кардинальных изменений в российском обществе // Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 120–132. DOI: 10.17805/zpu.2023.1.8
- Колесникова Г.И. (2018). Социальный тип личности: особенности трансформации в современной России // Психология и педагогика служебной деятельности. № 4. С. 42–48.
- Кравченко С.А. (2020а). Социологические теории травмы: дискурс в современной теоретической социологии // Социологические исследования. № 4. С. 60–69. DOI: 10.31857/S013216250009131-7
- Кравченко С.А. (2020b). Развитие предмета социологии: от монодисциплинарности к меж- и постдисциплинарности // Социологические исследования. № 3. С. 16–26. DOI: 10.31857/S013216250008794-6
- Красило А.И. (2021). Анализ индивидуально-общественной формы психологической травмы // Клиническая и специальная психология. Т. 10. № 3. С. 283–298. DOI: 10.17759/cpse.2021100314. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2021_n3/Krasilo (дата обращения 22.12.2023).
- Лапин Н.И. (2018). Антропосоциокультурный эволюционизм – метатеоретический принцип изучения сообществ людей // Социологические исследования. № 3. С. 3–14. DOI: 10.7868/S0132162518030017
- Лапин Н.И. (2021a). Сложность становления новой России: антропосоциокультурный подход. М.: Весь мир. 362 с.
- Лапин Н.И. (2021b). Человек и культура его взаимодействий с обществом в прошлом, настоящем и будущем России (Тезисы о сложности ответов на простые вопросы). URL: https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2021/podrobnee_11_02.pdf (дата обращения 22.12.2023).
- Левада Ю.А. (1995). Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. №. 6. С. 14–18.
- Миронова А.А., Татарко А.Н. (2021). Психологические причины коррупции: роль тревоги // Экономическая социология. Т. 22. № 1. С. 11–34. DOI: 10.17323/1726-3247-2021-1-11-34
- Немировский В.Г., Булатова Т.А., Немировская А.В. (2018). Страх как фактор социокультурных деформаций жизненного мира россиян // Вестник Института социологии. Т. 9. № 1 (24). С. 95–114. DOI: 10.19181/vis.2018.24.1.499. URL: https://www.vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2018_24/Nemirovskiy_i_dr.pdf (дата обращения 22.12.2023).
- Немировский В.Г. (2006). Массовое сознание и бессознательное как объект постнеклассической социологии // Социологические исследования. № 2. С. 13–19.
- Немировский В.Г., Невирко Д.Д. (2008). Социология человека. От классических к постнеклассическим подходам. Москва: Изд-во ЛКИ. 304 с.
- Нестик Т.А., Журавлев А.Л. (2021). Предисловие: Психология человека и общества в условиях пандемии // Влияние пандемии на личность и общество: психологические механизмы и последствия. С. 5–16. DOI: 10.38098/fund_21_0442_01
- Нестик Т.А. (2023). Влияние военных конфликтов на психологическое состояние общества: перспективные направления исследований // Социальная психология и общество. Т. 14. № 4. С. 5–22. DOI: 10.17759/sps.2023140401
- Пасовец Ю. М. (2023). Дихотомия и двухчленная политомия в современной социологии // Социологические исследования. № 5. С. 47–58. DOI: 10.31857/S013216250023051-9
- Смирнов Г.Л. (1971). Советский человек. Формирование социалистического типа личности. М.: Политиздат. 376 с.
- Смирнов П.И. (2011). Основные социальные типы личности: концепция выявления // Ученые записки СПбГИПСР. Вып. 2. Т. 16. С. 111–118.
- Сорочайкина Е.В. (2020). Личность в условиях социально-экономического кризиса. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. № 10. С. 115–118. DOI: 10.26104/NNTIK.2019.45.557
- Типологический анализ в социологи как диагностическая процедура. (2023) / отв. ред. Г.Г. Татарова и др.; ФНИСЦ РАН. М. 358 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-408-6.2023
- Тощенко Ж.Т. (2012). Еще раз об объекте и предмете как ключевой проблеме теоретической социологии // Социология. Журнал Белорусского государственного университета. № 3. С. 19–30.
- Тощенко Ж.Т. (2015). Фантомы российского общества. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 668 с.
- Тощенко Ж.Т. (2020). Общество травмы: между эволюцией и революцией. М.: Весь Мир. 352 с.
- Яковлева Н.Ф. (2021). Эмпирическое исследование терминальных и инструментальных ценностей детей-сирот / Педагогическая наука и современное образование. РГПУ им. Герцена. СПб. С. 121–124.
- Яницкий М.С. (2020). Система ценностных ориентаций личности и социальных общностей: структурно-динамическая модель и ее применение в психологических исследованиях и психологической практике // Вестник Кемеровского государственного университета. Т. 22. № 1. С. 194–206. DOI: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2020-22-1-194-206
- Chimenson D. et al. (2022). The paradox and change of Russian cultural values. International Business Review, 31(3), 101944. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101944
- Cyniak-Cieciura M., Zawadzki B. (2021). The relationship between temperament traits and post-traumatic stress disorder symptoms and its moderators: Meta-analysis and meta-regression. Trauma, Violence, & Abuse, 22(4), 702–716. Available at: https://doi.org/10.1177/1524838019876702
- Glebova T., Knudson-Martin С. (2023). Sociocultural trauma and intergenerational relational ethics. In: Sociocultural Trauma and Well-Being in Eastern European Family Therapy. Cham: Springer International Publishing. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-29995-7_7
- Długosz P. et al. (2020). Adaptacja pokoleń społeczeństw postsowieckich do radykalnych zmian społecznych. Nowa Polityka Wschodnia, (25)2, 9–35. Available at: https://doi.org/10.15804/npw20202501
- Fang T., Yin Yang (2012). A new perspective on culture. Management and Organization Review, 8(1), 25–50. DOI: 10.1111/j.1740-8784.2011.00221.x
- Kyong-Dong K. (2017). The Yin-Yang dialectic and principles of social change: Culturally independent alternative sociological ideas. In: Alternative Discourses on Modernization and Development. Palgrave Macmillan, Singapore. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3467-1_2
- Maercker A., Cloitre M., Bachem R., Schlumpf Y. R., Khoury B., Hitchcock C., Bohus M. (2022). Complex post-traumatic stress disorder. The Lancet, 400(10345), 60–72. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00821-2
- Mangassarian S.L. (2016). Years of trauma: The Armenian Genocide and intergenerational cultural trauma. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 25(4), 371–381. DOI: 10.1080/10926771.2015.1121191
- Miskova E.V. (2023). Collective trauma and retraumatization in Russia: A view from the inside. In: Glebova T., Knudson-Martin C. (Eds.). Sociocultural Trauma and Well-Being in Eastern European Family Therapy. AFTA Springer Briefs in Family Therapy. Springer, Cham. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-29995-7_3
- Palmer D.A. (2022). Granet, Mauss and China in the history of social theory. Mauss International, 2(1), 360–387. Available at: https://www.cairn-int.info/journal-mauss-international-2022-1-page-360.htm (accessed: December 22, 23).
- Redding G. (2017). Components and process in social science explanation: Is there a role for Yin-Yang balancing. Cross Cultural & Strategic Management, 24(1), 152–166. DOI: 10.1108/CCSM-11-2016-0195
- Rinker J., Lawler J. (2018). Trauma as a collective disease and root cause of protracted social conflict. Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology, 24(2), 150–164. Available at: https://doi.org/10.1037/pac0000311
- Subica A., Link B. (2022). Cultural trauma as a fundamental cause of health disparities. Social Science & Medicine, 292, 114574. Available at: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114574
- Tummala-Narra P. (2022). Integrating sociocultural trauma and context in conceptualizations of attachment. Psychoanalytic Dialogues, 32(2), 153–160. Available at: https://doi.org/10.1080/10481885.2022.2033551
- Young-Chan L. (2010). Postmodernity of Confucian sociology. Journal of Confucian Philosophy and Culture, 14, 23–49.