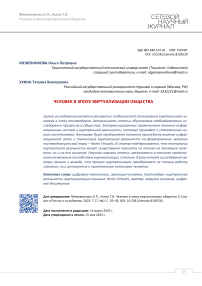Человек в эпоху виртуализации общества
Автор: Межевникова Ольга Петровна, Ухина Татьяна Викторовна
Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal
Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туристского сервиса
Статья в выпуске: 2 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является раскрытие особенностей становления виртуального человека в эпоху постмодерна. Актуальность статьи обусловлена необходимостью исследования процессов в обществе, детерминированных применением технико-информационных систем и виртуальной реальности, которые приводят к становлению нового постчеловека. Авторами была предпринята попытка проследить влияние информационной эпохи и технологий виртуальной реальности на формирование человека постмодернистской эпохи - Homo Virtualis. В статье подчёркивается, что технологии виртуальной реальности могут существенно повлиять не только на эволюцию человека, но и на его сознание. Научная новизна статьи заключается в попытке представить возможные последствия виртуализации сознания. В результате исследования авторы пришли к выводу, что процесс виртуализации преображает не только работу сознания, но и ценностные и практические установки человека.
Цифровые технологии, эволюция человека, постмодерн, виртуальная реальность, виртуализация сознания, homo virtualis, аватар, загрузка сознания, цифровое бессмертие
Короткий адрес: https://sciup.org/140299780
IDR: 140299780 | УДК: 004.946:572.02 | DOI: 10.5281/zenodo.8105530
Текст научной статьи Человек в эпоху виртуализации общества

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit

Технологическое развитие приводит не только к изменению сознания, но и стимулирует новые антропологические исследования и прогнозы. Это влияет на изменение взглядов на человеческую эволюцию. Воздействие технологического развития подводит к формированию представления о возможности, и даже необходимости дальнейшей биологической эволюции человека.
Главной движущей силой происходящих изменений в обществе и человеке выступают в настоящее время «конвергентные технологии» – понятие, которое было введено М. Роко и У. Бейнбриджем, которые представили отчёт Конвергентные технологии для повышения производительности [1]. Материалы были посвящены особенностям НБИКС – конвергенции, являющейся результатом взаимодействия и слияния самых разных научных сфер: химии, экологии, биологии, медицины, наук о земле, вычислительной техники, экономики, политологии, педагогики, психиатрии и др. Итогом подобного слияния являются социокультурные изменения всех областей жизнедеятельности человека. «Изменения лавинообразно нарастают и затрагивают не только социокультурную сферу, но и самого человека» [2, 208]. Следовательно, на сегодняшний день задача выяснения человеческой природы стоит несколько иным образом, чем раньше.
Приоритетным направлением современных философско-антропологических исследований является исследование процесса коэволюции физической телесности, мышления и окружающей среды, которое показывает телесную опосредованность мыслительных операций, осознание перспективы технологического изменения физической телесности человека и его ментальности [3].
Как утверждает эволюционная эпистемология, биологическая эволюция перерастает в геннокультурную эволюцию, которая утверждает существование прямого и обратного взаимодействия генов и социокультурной среды, осуществляемого когнитивными процессами. Описание механизма геннокультур- ной коэволюции мы находим у И.П. Меркулова: «При определённых условиях накопленная культурная информация и социокультурная среда становятся достаточно значимыми факторами естественного отбора, в том числе и отбора возникающих в когнитивной системе (на генетическом и клеточном уровнях) селективно ценных изменений, которые, в свою очередь, влекут за собой соответствующие изменения в доминирующих способах обработки когнитивной информации. … Поскольку адаптация и выживание живых систем обеспечиваются благодаря приобретению и аккумуляции информации об окружающей среде, то эволюция жизни – это эволюция механизмов адаптации, генетически контролируемых способов обработки информации. С этой точки зрения, когнитивные и ментальные способности людей также следует рассматривать как продукт информационного развития, который скорее всего предполагает переход от сугубо биологической эволюции к эволюции геннокультурной» [4, c. 295].
По сути, в современной социокультурной среде формируется масштабное распределённое сознание, так называемый супермозг, в который включается и сращивается с ним сознание индивида. Человек, сращённый с технобиосредой, представляется носителем сознания. В результате мы видим ориентирование всей глобальной технобиооболочки на переустройство внутреннего пространства человека, что, безусловно, сказывается на его феноменальном состоянии.
Проведя анализ воздействия умных устройств на человеческий мозг, Г. Смолл и Г. Ворган [5] заключают, что сегодня уже состоялся «мозговой разрыв» между «цифровыми иммигрантами» и «цифровыми от рождения», который косвенно отсылает нас к «великому разрыву» Ф. Фукуямы и иллюстрирует одну из причин конфликта поколений. Учёные в результате исследований приходят к заключению, что использование цифровых технологий может не только инициировать улучшение характеристики многозадачности индивида при его нескольких одновременных занятиях (разговор по телефону, скачивание музыки, прослеживание ленты в социальных сетях), но может менять выстроенные нейронные связи в мозге. И это не только потому, что «цифровым от рождения» естественным является общаться и взаимодействовать в сети, в которой устанавливаются определённые нормы этики и формат коммуникации, но идёт изменение самого способа информационного кодирования: «Ежедневное воздействие хайтека -компьютеров, смартфонов, видеоигр, ин-тернет-поисковиков - заставляет нервные клетки изменяться, выбрасывать нейротрансмиттеры и объединяться в новые сети (в то время как старые постепенно разрушаются). Нейронные сети в мозгу устроены по-разному у «цифровых от рождения» и «цифровых иммигрантов». Бомбардировка растущего мозга «цифровыми» стимулами учит быстрым реакциям, но при этом кодирование информации происходит иначе, чем в мозгу у людей в возрасте» [5, c. 14].
Это приводит нас к понятию постчеловека, виртуального постчеловека в контексте нашего исследования.
В общекультурном дискурсе понятие «постчеловек» появляется к концу ХХ в. и становится общим понятием для всех представлений о будущем человеке. Необходимо отметить, что с сер. ХХ в. самые разные феномены сферы культуры начинают широко использовать приставку «пост». Она знаменует новое качественное состояние определённых культурных феноменов в сравнении с предыдущим, которое не приобрело нового названия. Следовательно, она указывает на преодоление определённого принятого порядка состояния вещей, а также на качественные различия явления во времени. Лингвосемантическая культура постмодерна породила понятие постчеловека как того, который сменит «традиционного» человека.
Изучение взаимодействия материальной телесности и сознания особенно важно и потому, что со всей очевидностью проявляется желание человека перестроить, трансформи- ровать свою природу. Одной из многообещающих и менее фантазийных тенденций в изменении сущности природы человека предстаёт цифровая виртуализация и субъекта, и его окружающей среды, которая приводит к формированию разновидности постчеловека – Homo Virtualis. Скажем, что виртуальность не приводит к изменению нашего физического тела, но так сильно воздействует на то, как воспринимает человек себя и окружающий мир, что происходит значительная трансформация сознания и идентичности человека. Само название Homo Virtualis является условным для проявляющейся сегодня особой человеческой разновидности, которая вовлечена в виртуальной пространство. Появление такой разновидности человека связано с компьютерной революцией ХХ века, когда появилась возможность создавать новое пространство для реализации поведенческих стратегий человека – компьютерную виртуальную реальность, которая по определению В.В. Бычкова и Н.Б. Мань-ковской, есть «особый пространственно-временной континуум, создаваемый с помощью компьютерной графики и звуковых эффектов и полностью реализуемый в психике субъекта» [6, c. 369]. У человека в границах этого пространства есть возможность частичной или полной реализации своей собственной субъектности с помощью актов симуляционного функционирования. Формируется новый тип мышления, уже не субъектно-индивидуальный, а выраженный в понятии постклассического гиперсознания. С очевидностью в настоящее время формируется сетевое групповое сознание и человеко-машинный интеллект.
Антропологическое диагностирование состояния Homo Virtualis наглядно показывает степень его преобразования и отличия от «традиционного» человека. Обратим внимание на следующие моменты:
-
1. Дематериализация субъекта, утрачивающего телесность и традиционные формы репрезентации и превращающегося в информационно-цифровой символ. Связи, возникающие при осознании человеком внешней
-
2. Смена материально-телесной определённости на виртуально-цифровую авата-ризацию. Впечатление, производимое нами на окружающих, оказывает влияние и на личную жизнь, и на карьеру. В виртуальном мире за это впечатление отвечает так называемая «аватарка».
-
3. Наделение Homo Virtualis сверхчеловеческими возможностями в результате использования цифровой реальности. Особенно ярко это явление прослеживается у участников цифровых миров, которые используют их в компьютерных играх. Используя понятие сверхспособности, мы подразумеваем психологическое состояние, в котором особый потенциал аватара воспринимается как установленный стандарт, то есть то, что необходимо присутствует у настоящего тела и лишение чего воспринимается как физический недостаток. Это явление наблюдается тогда, когда человек долгое время продолжает находиться в состоянии аватароопосредованной деятельности. Следствием этого является бессознательное смешение качеств, присущих аватару и физическому телу,
реальности и себя как части этой реальности, исходят из понимания того, что человек и человеческое общество есть часть материального мира. Размышляя о чем-либо, человек в своём сознании не только принимает во внимание наличие параметров материальной реальности, таких как время, пространство, физические, химические, биологические характеристики, но связывает их с собой и окружающей действительностью. По мере увеличения этих параметров, происходит и увеличение количества этих связей, тем самым формируя сознание человека: с одной стороны, всё более связывая его с материальным миром, с другой стороны, ведёт к более высокому уровню развития сознания, а, следовательно, и понимания материального мира и себя в нем. Человек последовательно формирует эти связи с самого рождения, вписывая своё бытие в бытие окружающего мира, периодически переформатируя их в своём сознании с изменением условий своего бытия в мире. Если такие связи формируются в ходе развития сознания, то, следовательно, есть возможность эти связи и разорвать, подменяя материальные параметры на виртуальные, придуманные, либо дополняя виртуальными настолько, что это приводит к качественному разрыву материальных связей, и они становятся настолько малы, что просто игнорируются. Именно таким образом и происходит дематериализация сознания. Но именно таким образом начинается виртуализация сознания.
Физический образ человека на сегодняшний день обусловлен самим человеком: телесные границы как универсальной формы, которая не подвержена радикальным изменениям, все более размываются и изменяются.
При рассмотрении нами феномена виртуализации человека можно опереться на идею «тела без органов» Ж. Делёза [7], которая обозначает виртуальное существование тела, соединение возможных навыков, свойств, чувств, активизирующихся в результате экспериментов человека с собой. Цифровое пространство меняет представление о телесности. «При сужении телесных контактов виртуальные практически бесконечны. Электронное тело простирается в пространстве и времени за границы существования реальной личности» [8, c. 256].
Специфическим способом существования виртуального бытия можно определить сферу, которая возникает в процессе движения информации и замещает реальную сущность. Говоря иначе, Homo Virtualis – это не живой человек, а виртуальная личность.
Понятие «аватар» менялось в течение тысячелетий, и на это повлияло множество обстоятельств. Научно-технический прогресс оказал особое влияние не только на значение термина, но и на то, как человек стал представлять себя в виртуальном пространстве, ведь именно аватарка представляет там отдельную личность. Технологическая эпоха повлияла не только на значение понятия, но и на то, как позиционирует себя человека в целом.
Понятие «аватар» берет своё начало в индуизме, где используется для обозначения божества, сошедшего на Землю в телесном виде. В индуистской религиозной традиции бог Вишну принимает различные земные аватары, чтобы навести порядок после погружения человечества в хаос. Сегодня человек стал таким богом, который переосмысливает себя в цифровом мире. Аватарки, как отражение сущностного образа человека, рассеяны на сайтах, в многочисленных социальных сетях, по электронным адресам. Презентуя себя через аватарку, человек в ней акцентирует внимание на нормы нравственности и поведения, которые присущи конкретным сетям и сайтам. Человек в онлайн-мире существенно отличен от того, каков он в действительной реальности. Соединение реального человека и аватара представляет собой виртуальное воплощение – отождествление биологического тела с цифровым. Оно делает возможным проживание другой жизни и реализацию практически любых желаний, недоступных в реальности. Исследования виртуальной реальности доказывают, что ощущения и восприятия, полученные в симуляционном пространстве, кардинально меняют и самого человека, и его поведение. Способность перевоплощаться в цифровой аватар приведёт однажды к исчезновению границ между цифровой симуляцией и реальностью. М. Маклюэн утверждал, что использование предметно-манипулятивных орудий труда, коммуникативных инструментов – устных, рукописных, печатных, электронных – мы воспринимаем как продолжение, расширение человека, которое вызывает психологическое состояние единения, иммерсии и присутствия. Особенно ярко это демонстрируют компьютерно-опосредованные коммуникации. Аватар, будучи цифровым знаком, символом, способен привести к изменению самоидентификации, восприятия и поведения не только в виртуальном мире, но и за его пределами. С расширением возможностей человек получает преимущество использовать потенциал обоих миров, но следует понимать, что сращивание с выбранным персонажем когда-нибудь обязательно свершится.
перенос на реальное тело свойств, характерных для аватара, и наоборот. Аватар в качестве сверхвозможности может обладать левитацией, невидимостью, способностью гашения скорости свободного падения и т.п.
В конечном счёте виртуальная личность реализует свою сверхчеловеческую устремлённость в границах виртуального пространства, но при этом происходит утрата человеком антропологической идентичности, он превращается в информационно-цифровую совокупность аватаров. По этой причине мы согласимся с идеей П.С. Гуревича, который полагал, что в XXI столетии происходит стремительная деантропологизация человека [9].
Сейчас даже самые ревностные заступники виртуальной реальности взывают к современному человечеству с призывом не забывать о физическом теле. Необходима укорененность в реальной действительности, после иммерсии в пространство симуляции человеку необходимо возвращение к переживанию своей телесности. «Мы никогда не станем виртуальными существами, свободно плавающими между различными виртуальными мирами: «реальная жизнь» нашего тела и его смертность – вот основной горизонт нашего существования, предельная, глубочайшая невозможность, которая служит основой для погружения во все множество возможных виртуальных миров» [10, c. 46].
Таким образом, виртуализация человека является неоспоримым фактом, и по этому поводу гуманитарные науки (философия, культурология, социология, психология) ведут многочисленные дискуссии. Человечество разделилось на тех, кого манит разносторонняя виртуализация и оцифровка различных сфер жизнедеятельности (вспомним «цифровых от рождения»), и тех, кто противится этим технологическим нововведениям. Первые говорят о том, что цифровой человек, лишённый изъянов, несовершенств и ограничений телесной природы, представляет совершенное воплощение представления человека об идеале. Говоря иначе, цифровой виртуальный человек даёт возможность пользователю сети стать лучше, устремляя его к активным положительным свершениям, преодолевать коммуникационные барьеры, возмещать физические несовершенства, отвлечься от рамок и границ, удерживающих человека в реальном мире. Виртуальный человек, будучи знаковой единицей, становится более свободным и творческим, нежели чем реальная личность. И этой позиции мы не можем противиться, поскольку это действительно так.
Защитники негативной позиции не отрицают того, что человечество неизбежно погружается в цифровое пространство. Но их принципиальным соображением является беспокойство в отношении свобод и опций, предоставляемых киберпространством. Первым утверждением выступает аргумент использования свободы в сети с целью деструктивного поведения, так как отсутствует страх перед ответственностью за те или иные действия (на сегодняшний день скажем, что в этом направлении идёт активная работа во всех странах мира). Ещё большее зло со стороны апологетов негативного подхода видится в интернет-зависимости, которая не диагностируется как заболевание, но имеет характерные симптомы. Они расходятся с представлениями о нормальной жизнедеятельности в обществе, что заставляет усматривать в технологических устройствах суррогаты реальности. Различие между интернет-пользо-ванием и интернет-аддикцией не во времени использования, как считает большинство, а в поставленных целях. Участник может воспользоваться услугами сети в любое сколь угодно продолжительное время, но для него остаётся важным сохранить реальное социальное взаимодействие, тогда как интернет-зависимый преследует цель уйти целиком в виртуальное пространство, заменив им реальное.
Здесь погружение в символическую реальность аналогично фроммовскому «бегству от свободы» [11], когда человек игнорирует личные и социальные проблемы реального мира, а также уходит от ответственности, избегая свободы в принятии решений. Киберпрост- ранство превращается в инструмент, тогда как реализация рекреационной функции уходит на задний план. «Уход от свободы реального мира, – отмечает Р.А. Барышев, – может быть вызван тем, что в киберпространстве свобода представлена гораздо шире, и личность, погружаясь в виртуальный мир, сама ограничивает свою реальную свободу в пользу «виртуальных оков» без необходимости за что-либо нести ответственность» [12, c. 16]. Иначе говоря, виртуальная личность может реализовать новые возможности анонимности, вариативности демонстрации собственной сути, но все эти свойства имеют временный и эфемерный характер, и никак не влияют на приобретение пользователем реальных знаний, умений и навыков. В результате отчуждение личности под влиянием действия симуляционного пространства представляет в настоящее время необычайно актуальную проблему и вызывает споры у исследователей медийной и интернет-культуры.
Также, исследуя проблему виртуального человека, невозможно проигнорировать идею цифрового бессмертия, приобретающую большую популярность у участников различных ин-тернет-сообществ и виртуального пространства. Цифровое бессмертие, согласно Википедии, – гипотетическая идея технологии, которая позволит хранить личность индивида на компьютерных устройствах с целью предоставления виртуальной копии возможности общения с людьми. Основываясь на информации, которая получена о человеке прижизненно, «оттиск» личности должен функционировать и реализовывать мыслительные процессы так же, как и человек. Здесь усматривается аналогия резервного копирования.
Если отвлечься от технических нюансов, признаем, что концепция закачивания сознания на компьютерные устройства и идея виртуального бессмертия полны парадоксов. При возможности создания точной копии сознания можно говорить о возможности создания и нескольких копий, а также, как вариант, сохранении живого оригинала параллельно создан- ному [13]. С материалистических позиций мышление неотъемлемо от тела, а идеи подобные утверждению, что «одна и та же личность существует в нескольких местах пространства одновременно», опровергаются как нелепые, и копии являются равноценными на момент сотворения. Та же точка зрения настаивает на невозможности переноса сознания даже при уничтожении оригинала, так как при данных условиях умирает мозг как материальный накопитель сознания, и в теории возможным является только копирование. Похожую аргументацию можно дополнить идеалистическими представлениями о том, что личность не является субъектом больше, чем одного жизненного опыта одновременно, и, значит, не имеет возможности существования в нескольких местах одномоментно. Из этого следует, что нельзя сделать даже одного оттиска сознания.
Многие мыслители принципиально утверждают, что идея скачивания и закачивания сознания основывается на ложной теории независимого существования личности и телесности. Точка зрения, выраженная американским философом К. Ламонтом, утверждает, что личность представляет собой жизнь, функцию или деятельность тела [14]. Тело, которое действует и живёт определённым образом, который связан с головным и центральной нервной системой. Согласно его утверждению, личность может мыслиться отдельно от тела не более, чем дыхательная или кровеносная система. Следовательно, личность – это качество тела, а не независимо существующий объект. Ламонт утверждает:
личность такое же неотъемлемое качество мозга, как красный цвет неотъемлемая характеристика красной розы.
Предположение о вероятности загрузки сознания и цифровом бессмертии подвергается критике и со стороны дуализма, который постулирует наличие духовной субстанции – души, которая не может быть смоделирована или перенесена на материальный носитель.
Подводя итог, скажем, что в эпоху постмодерна претерпевают преображение ценностные и практические установки человека, посредством технологий и интеллектуальных систем происходит реализация большого количества возможностей, но при этом человек находится в парадоксальном состоянии – он теряет свою сущность, ощущение своей укорененности в мире и не понимает, что введено в действие вытеснение человека как представителя биосферы, инициирован процесс выдворения личности.
Виртуализированное сознание, которое сформировано с использованием аудиовизуальных технологий новейшей медиакультуры, воспринимается неоднозначно. Но, преодолевая одноракурсность оценивания предмета нашего исследования благодаря системному изучению информационно-коммуникационных технологий и их влияния на сферу общественной жизни, мы подходим к потребности их дальнейшего совершенствования и внедрения во все сферы человеческой практики, начиная с досуга и образования человека и заканчивая областью международной политики и развитием социокультурной сферы в мировом масштабе.
Список литературы Человек в эпоху виртуализации общества
- Roco M.C., Bainbridge W.S. (Eds.). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Scienc. NSF-DOC Report. Arlington, 2002.
- Шевченко Ю.С. Природа человека в свете конвергентных технологий: философский анализ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №6(20). Ч. I. C. 208-210.
- Varela F., Thompson E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press, 1991. 328 р.
- Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М.: Изд-во РОССПЭН, 1999. 310 с.
- Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху интернета / Пер. с англ. Б. Козловского. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011. 352 с.
- Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Виртуальная реальность // Культурология. Энциклопедия. В 2-х тт. М.: Росс. политич. энцикл., 2007. Т.1. С. 369-374.
- Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академич. Проект, 2011. 472 с.
- Шклярик Е.Н. Новая онтология // Информационная эпоха: вызовы человеку / Под ред. И.Ю. Алексеевой и А.Ю. Сидорова. М.: РОССПЭИ, 2010. С. 230-258.
- Гуревич П.С. Феномен деантропологизации человека // Вопросы философии. 2009. №3. С. 19-31.
- Кутырёв В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма). М.: ЧеРо, 1999.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009. 288 с.
- Барышев Р.А. Личность в контексте киберпространства // Вестник Челябинского гос. ун-та. Философия. Социология. Культурология. 2017. Вып.20. С. 15-18.
- 13.Лемм С. Сумма технологий. М.: Изд-во АСТ, 2018. 736 с.
- Lamont C. The philosophy of humanism. London, 1961. XXI. 243 p.