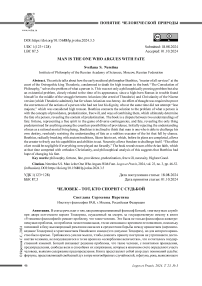Человек - тот, кто спорит с судьбой
Автор: Неретина С.С.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие человеческой природы: исторические трансформации и современные проблемы
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет о том, как раннесредневековый философ Боэций, «магистр всех служб» при дворе остготского короля Теодориха, осужденный на смерть за государственную измену в книге «Утешение философией» решает проблему, что такое человек. Это была не только философски животрепещущая проблема, но проблема экзистенциальная, тесно связанная с временем ее появления, поскольку попавший в беду высокородный римлянин оказался в средостении борьбы между арианством (вероисповедание Теодориха) и христианством Никейского извода (что допускал Теодорих), но для которого арианство было ересью. Требовалось усилие мысли, чтобы доказать правоту поступков не утратившего достоинства человека, не покушавшегося в то же время на «оскорбление величества», что и считалось государственной изменой. Боэций связывает решение проблемы, что такое человек, с понятиями провидения, предопределения, свободы воли и способами их сопряжения, которые в конечном счете определяют участь человека, выявляя содержание предопределения. Книга представляет собой спор двух пониманий судьбы: фортуны, представляющей свободный дух в игре многообразных случайностей, и фатума, рока, выявляющего единственно предопределенное для любой вещи среди бесчисленных возможностей провидения. Изначально отвергая понимание человека как рационального смертного живого существа, Боэций склоняется к мысли, что человек - тот, кто способен оспорить свою собственную судьбу, решительно сопротивляясь пониманию фатума как безжалостного исполнителя жребия, выпавшего по воле случая. Боэций, в корне порывающий с древней традицией, уподобляет фатум искусству, которое, прежде чем завершится задуманное, позволяет творцу свободно использовать свои возможности и способности действовать. Необходимость позволяет свободе оспорить себя. «Эффект искусства был бы ничтожным, если бы все разыгрывалось принужденно». В книге обнаруживаются следы арианского вероисповедания, соперничавшего в то время с ортодоксально-христианским, и философский анализ этого позволяет предположить, что у Боэция была надежда на изменение участи.
Философия, фортуна, фатум, провидение, предопределение, свобода воли, необходимость, высшее благо
Короткий адрес: https://sciup.org/149147469
IDR: 149147469 | УДК: 1(123+128) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.5
Текст научной статьи Человек - тот, кто спорит с судьбой
DOI:
Цитирование. Неретина С. С. Человек – тот, кто спорит с судьбой // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 46–52. – DOI:
В «Утешении философией» Боэций (480 – 524/526), наверное, единственный философ-христианин, не надевший сутаны, к тому же репрессированный, желал получить ответ на свои жалобы, которые бы способствовали умиротворению и спасению души и тела. В произведении показано, как неслиянно и нераздельно соотносились две человеческие природы: одна – живущая семьей, науками, трудом (был сенатором, консулом, magister officiorum при дворе остготского короля Теодориха), другая – желающая по наущению философии стать подобным Богу [Boethius 1934, 12]. Потому в «Утешении философией» с наибольшей остротой встает вопрос о том, что такое человек.
В этом произведении Боэций – один в трех лицах: 1) он – философ, «молчаливо рассуждавший сам с собой» [Boethius 1934, 2], и автор произведения, 2) он – тот, кто в видении ведет диалог с Философией, дамой «с пылающими очами ликом, требующим почтения» [Boethius 1934, 2] и 3) осужденный на казнь человек. Приговоренный к смерти как государственный преступник за желание «спасти сенат», «надеяcь на римскую свободу» [Boethius 1934, 10]), он представляет себя в критическом состоянии духа .
Произведение по форме представляет собой чередование стихов и прозы. Такая речевая смена соответствует игре разных природ, многообразия вещей. Потому человек должен учиться различать судьбу-Фортуну, предполагающую череду состояний: любимца и жертвы) и судьбу-Фатум, рок. Фортуна – судьба как следование случайному жребию, а Фатум – как выбор предначертанного.
Речь идет, однако, не просто о состоянии души и тела человека-философа, потерявшего в глазах народа достоинство. Боэций, считая себя невинным мучеником, ставит острейшие вопросы, среди которых проблема происхождения зла и добра , сформулированная отнюдь не христианским философом Эпикуром, числившимся безбожником, цитаты из которого сохранялись, однако, христианскими писателями. Высказывание, ставшее путеводным для Боэция и переданное Лактанцием, таково: «Если существует Бог, то откуда зло? И откуда добро, если Бога нет» [Boethius 1934, 11] .
Вопрос о том, что есть человек, возникает в состоянии потрясения, «сдвинутости с места», когда бытовавшее определение человека как «разумного смертного живого существа» оказалось неудовлетворительным: в потерянности произошло забвение того, «что есть ты сам» [Boethius 1934, 18].
Смысл явления Философии в том и состоит, чтобы привести человека, «увидевшего, увы, безрассудную землю» [Boethius 1934, 4], в разум, отстранив «бесполезные шипы переживаний» [Boethius 1934, 3], и заново открыть в нем его самого. Философия начинает лечение с возвращения Боэция к «познанию вещей человеческих и божественных» [Boethius 1934, 8]. Последние слова – указание на трактат «О пределах добра и зла» (II, 37) Цицерона (от которого, кстати, пошел и жанр утешения) – свидетельствуют, что Боэций в вопросе о том, что такое человек, квитался не со своими единоверцами, а с римской философией, ставя на кон устоявшиеся понятия. Именно поэтому
Философия приводит его не в библиотечный внешний мир, а во внутренний мир души.
Логический путь лечения начинается с утверждения, что Бог как Высшее благо и источник блаженства есть вместе с тем цель человеческого существования и его начало. Для Философии и соответственно для Боэция это очевидно: разум свидетельствует [Boethius 1934, 65–66], что Бог преисполнен совершенного блага. Выяснение статуса Высшего блага, зависит от ответа на вопрос, получено ли оно «Отцом всех вещей» извне или Он обладает им по природе. Философия сопровождает умозаключение о Боге как Высшем благе по природе королларием, из которого следует, что и человек может быть богом: «Поскольку обретение блаженства делает людей блаженными, а блаженство есть сама божественность, значит, обладание божественностью делает блаженными, что очевидно. Но как при принятии справедливости становятся справедливым, мудрости – мудрыми, так необходимо, чтобы божественность случилась у обретших Бога», а значит «всякий блаженный – Бог» [Boethius 1934, 60–61].
Фраза о том, что «всякий блаженный – Бог» требует комментария, выходящего за рамки этого исследования, но ясно, что это – нерв книги, не исключено, что здесь сталкиваются арианские и никонианские принципы, изложенные схематически. Можно, конечно, допустить, как это делает переводчик «Утешения» на русский язык В.И. Уколова, что в упомянутом выражении имеется в виду, что «в каждом, обретшем блаженство, заключен Бог»: это вполне соответствовало бы ортодоксальной мысли. Но Боэций так не пишет. Он жил при дворе арианина Теодориха, считавшего Cына Богом, сотворенным из другого, не-сущего, и не мог не считаться с его религией при всей веротерпимости Теодориха: в «Утешении» упоминается только Бог Отец как принцепс-повелитель всех вещей (не Троица). Боэций называет условие притождествления человека Богу – обладание блаженством. Поскольку Христос – это тоже человек, значит, Он становится Богом из другой природы через причастие блаженству. О том свидетельствует утверждение, что Высшее благо и блаженство – не разные, а одна и та же субстанция. Коль скоро «Бог достоинством превосходит все… то противоречит разуму, что Бога, которого мы назвали началом вещей, может создать невесть кто, кто связывал бы разные вещи» [Boethius 1934, 65–66]. Ведь все отличающееся принадлежит другой природе. Попытка указать на религиозную ошибку не исключает, что в этом – корень разногласий с властью.
Эта установка обнаруживает и способ движения мысли к пределу – к «уподоблению Богу» (она же – основная идея и трактата «О пределах добра и зла» Цицерона), вместе выясняющая, что есть человек, который не просто нечто «разумное смертное», а такое «иное», которое неизвестно или забыто. Здесь существенна соотнесенность и с Августино-вым «я сам себя поставил под вопрос», и с римским определением человека, связь с которым подорвана и разорвана. Речь не столько об акценте на земное в себе с целью более яркого высвечивания природы человека (о чем свидетельствуют жалобы Боэция), сколько на обнаружение его более высокой природы. Вся книга – жесткое столкновение смертной и бессмертной, неслиянных и нераздельных природ , обнаруживающее, что мир движется не по слепым законам.
Речь о Фортуне – на первый взгляд, странная. Фортуна – это быстротечная, изменчивая, непрерывная игра; свободный, но не управляемый дух. Такой дух случаен , временен. Философия, однако, призывает быть осторожным к такому пониманию фортуны, напоминая древнее убеждение, что «ничто не происходит из ничего» (хотя ничто у древних – причина скорее материальная, чем творящая, но и здесь лечат человека в земном мире). Осаживает даже не из-за разъяснения важности любого случая-сasus’a, а ради напоминания о высокомерии Боэция: он, рожденный на земле, считает своей отчизной горний мир, земной называя «ссылкой», хотя это «родина населяющих» ее [Boethius 1934, 29–30].
Философия пытается изменить оптику Боэция. Его «высокомерие» – причина непонимания происшедших с ним бед. Так, случай есть событие, неопределенное для человека, но возникшее в результате стечения обстоятельств, вызванных разными причинами (кто-то, например, давным-давно зарыл золото в землю, имея в виду ее нетронутость, а его потомок, много лет спустя, желая возделать землю, его нашел); совпасть причины заставляет некое устроение, порождающее разные связи. Из такого случайного факта нельзя делать универсальных выводов. Можно только стремительно вращать колесо фортуны и радоваться, когда павшее до предела возносится ввысь, давая людям надежду на лучшее.
Но если все следует своей природе, то непостоянство фортуны не может иметь к этой природе никакого отношения, фортуна не может эту природу отобрать, она не принадлежит к Высшему благу, поскольку связана с низменными вещами, в которых человек, хотя разумом уподоблен Богу, готов видеть прекрасное украшение, оскорбляя тем самым Создателя. Здесь Боэций и ставит вопрос о природе человека.
Разрыв между предназначением человека («познай самого себя») и забвением предназначения, увлеченностью игрой случая приводит к утрате человеком своего возвышенного статуса среди земных созданий, своего достоинства и самой своей природы. Но если природе прочих живых существ, кроме человека, не свойственно самопознание, то попрание человеком собственной природы – это Философия заявляет твердо – есть «следствие развращенности», то есть крайнего цинизма и преступной распущенности. Высшее предназначение человека им же и отторгнуто. Это не просто теоретическое положение, это описание экзистенциального состояния самого Боэция, который жаловался на утрату земных, полученных от фортуны, благ.
Природа человека как вида полностью и одновременно пронизывает любого, носящего имя «человек». Только в том случае, если носитель этого имени сохраняет природу разумного, говорящего, одушевленного, смертного, прямоходящего, умелого, если он представляет себя как владельца универсальных возможностей и способностей (Боэций определил это как субъект-субстанцию), то он не просто носитель имени «человек», но человек по природе . Носящий имя человека содержит в себе самом как в целом моральное и аморальное, больное и здоровое, разумное и неразумное; в зависимости от собственного выбора, от принятия/непринятия дара жизни,
С.С. Неретина. Человек – тот, кто спорит с судьбой способностей, умений он является человеком, как он задуман по природе. Если же он утрачивает свою природу, то в лучшем случае пребывает в животном состоянии, в худшем – просто телом.
Боэций не случайно пишет о создании не просто всего, а всех вещей . Термин «вещь» (res) – один из существенных в христианстве. Вещь способна сообщением о себе ( вещанием ) повернуть человека к самому себе, о чем свидетельствует диалогическая структура произведения Боэция, где он один-в-трех. И если в начале диалога Философии важно разговорить Боэция, то есть вывести болезненную речь о себе вовне, то в ходе диалога она обращает его помыслы внутрь. Боэций начинает смотреть на Боэция, на ту реальность (от res), от которой он отстраняется и остраняется. Сама речь об утрате человеческой природы есть уже состояние о(т)странения. «Преображенного пороками… ты не можешь считать человеком. Клокочет от жажды чужого достатка злобный расхититель? – Скажешь, что он подобен волкам. Неудержимо и беспокойно языком вызывает на ссору? – Сравнишь с собакой. Как тайный интриган радуется тому, что скрыл преступление? – Приравнивается к лисицам. Рычит от безмерного гнева? – Считается, что его ведет душа льва…». Такие люди теряют человеческую сущность и «превращаются в чудовища» [Boethius 1934, 87].
Только теперь, после рассуждения о том, что человек может утратить свою природу, Боэций начинает говорить о человеке не как о разумном смертном, а как уподобленном Богу, для чего снова востребована идея судьбы но на другом уровне. Философия начинает рассуждать не об игре разных природ судьбы-фортуны, но о простоте провидения (вводится этот ожидаемый термин), которое влияет на линию судьбы-фатума, рока, связанного с божественным предзнанием, свободой воли и предопределением (этот термин дважды используется в книге). Но речь о фатуме, хотя и иначе, возвращает мысль к понятию внезапной случайности.
Боэций – логик, он последовательно подводит к тем терминам, с которыми имеет дело христианин, и показывает, как осуществляется их перевод с римских понятий. Судьбе-фатуму предоставляется роль переводчика, переходника от божественного ума (mens) по определенным траекториям к человеческому: божественный ум «на вершине своей простоты» в точке сосредоточения еще не развернутого многообразия вещей «установил способ ведения (или управления) вещами» [Boethius 1934, 96].
Здесь важно уловить некую постоянно используемую Боэцием (см. его «Комментарий к Порфирию») технику рассуждения: каким образом одно и то же (в данном случае способ управления вещами) выполняет разные функции в зависимости от его иерархического положения: «Если этот способ рассматривать как саму чистоту божественного понимания, то он называется провидением, если же его рассматривать относительно того, что он движет и располагает, то, как говорят древние, он назывался фатумом» [Boethius 1934, 96]. Боэций уточняет: «Эта разница легко обнаружится, если кто-то умом заметит силу того и другого. Ведь провидение – это сам божественный разум (ratio), установленный как высший принцип, который располагает все в целом, фатум же упрочивает расположение в переменчивых вещах… Провидение охватывает равным образом все целиком : различное или бесконечное, фатум же распределяет только единичное, находящееся в движении , разделяя по месту, форме и времени. Это развертывание, собранное в божественном уме, есть созерцательное провидение. Собранное же, распределенное и простирающееся во времени, зовется фатумом» [Boethius 1934, 96].
Ясно, что связанный с движением фатум зависит и проистекает от провидения, как «простой и неподвижной формы вещей, которые необходимо сделать» (Боэций сравнивает дела провидения с работой ремесленника). Фатум так относится к неизменной простоте провидения, как рассуждение к пониманию, как рождающееся к пребывающему, как время к вечности, как движущийся круг к покоящемуся центру. Смысл провидения состоит в том, что оно может сотворить чудо: например, в порочном обнаружить добродетель.
Но если предвиденное Богом должно свершиться, то – Боэций задает такой вопрос – остается ли место свободе воли? Положительный ответ возникает уже оттого, что тот, кто от природы наделен разумом, то есть способностью рассуждать и отличать одно от другого, кто делает заслуживающее награды или порицания, уже обладает свободой. Но речь, однако, идет не просто об обладании свободой, но о возможности свободы при условии, что предвиденного не может не быть. Ответ дается после анализа понятий провидения, предзнания, фатума, предопределения и свободы воли.
Этому посвящена пятая, завершающая книга «Утешения», которую Философия начинает с признания трудности проблемы провидения. Трудность была осознана еще Цицероном, писавшим об этом в трактате «О ди-винации». Желая разрешить эту трудность, Философия берется за анализ содержания провидения как предзнания, выявивший еще большую трудность, ибо используются три понятия, обозначающих «предзнание»: praescientia, praenotio и praecognitio. Судя по всему, Боэций в лице Философии введением разных терминов хотел обнаружить в провидении некие перетекающие друг в друга статусы: первый из терминов (praescientia) больше склонен акцентировать некое предчувствие, укол знания, второй (praenotio) – интуицию, третий (praecognitio) – опору на предшествующее знание. Он спешил понять основание случая-casus, который создал «казус Боэция». Если допустить, что «Утешение» не завершено, то очевидно, что он обозначил пункты дальнейшего исследования. Но в данный момент важно было понять, что все эти статусы провидения существуют, но не сообщают вещам необходимости. Они – знак этой необходимости, но этот знак не сообщает о том, что именно он обозначает. То есть мы знаем, что некая вещь случится, но не знаем, какая вещь, ибо знание зависит от природы познающего , а не от природы познаваемого .
Вот здесь и появляется суждение, что миру природной необходимости противостоит мир свободы, представляемый искусством. Мир произведен Творцом, Мастером, Искусником, в христианстве это подчеркивается. Боэций постоянно вспоминает о мастере-ремесленнике (аrtifex), его окружают музы, явившаяся Философия не говорит, а поет. «Многое задуманное, пока оно совершается, мы видим очами интуиции, как, например, когда наблюдаем, что проделывают возницы в квадригах, которые нужно направлять и поворачивать, и прочее в том же роде», чтобы, скажем, опередить соперника. «Разве какая-то необходимость заставляет их это делать?» [Boethius 1934, 116].
Боэций связывает с искусством и неопределимую способность мастеров-ремесленников, и столь же неопределимую способность возниц управлять лошадьми, и появление при этом неожиданной, хотя и необходимой вещи. «Эффект искусства был бы ничтожным, если бы все разыгрывалось принужденно» [Boethius 1934, 116]. Необходимым это станет, лишь уже свершившись в будущем. Только существование показывает, что необходимо.
Прежде чем говорить о провидении, Боэций устами Философии прояснял, что такое достоинство как природа человека и Высшее благо (Бог и провидение, могущее быть нежданно добродетельным). Потому свобода воли не случайно у него связана с достоинством и искусством. Он считает себя выучеником Августина. Августин же в «Граде Божьем», ссылаясь «на определение древних» термин «искусство», «ars» производит именно от «добродетели». «Добродетель есть искусство жить хорошо и справедливо. Поэтому от греческого слова арет^, что значит добродетель, латиняне, как полагают, заимствовали термин ars, artis, искусство» [Августин 1994, 208].
С таким пониманием свободного искусства Боэций связывает свободу воли, своим действием определяющую навек судьбу-фа-тум человека. Мы, таким образом, имеем дело уже не с временем и его меняющимися обстоятельствами, а с вечностью как «полнотой бесконечной жизни и совершенной собственностью» [Boethius 1934, 122]. Такое не убывающее и не уменьшающееся настоящее, или присутствие, то, что всегда есть предопределение, которое может быть выявлено моментально при активности того, кто совершает действие. Действуя (живя), человек выбирает одну из множества возможностей, предоставляемых провидением. Она и определяет в вечности его присутствие. Любой замысел, любое свершение уже тем, что это сказано или сделано, попадают как бы в два измерения: временное, где все изменчиво, и в вечное, где уже навеки застревает это сказанное-сде-ланное-замысленное. Более того, предопре- деление заявляет о себе через судьбу-фа-тум. Оно хочет, чтобы с ним спорили, его выбирали, фатум этого хочет, как те возницы, что поворачивают так и этак свою квадригу ради победы.
Боэций, используя все мыслительные стратегии, сначала стратегии необходимости, затем свободно действующие артистические, долго вел нас к тому, чтобы показать необходимость предельных усилий человека во времени. Ибо человек – тот, кто может спорить с судьбой. «Но если в моей власти изменить замысел, то я отменю провидение, так как сильно изменю то, что оно предзнает» [Boethius 1934, 126]. Философия парирует, но ее ответ не столько отклоняет предположенное Боэцием, сколько уточняет его: «Ты можешь уклониться от предстоящего (от замысла. – С. Н. ), но поскольку и то, что ты можешь, и то, что ты сделаешь и куда повернешь, истина провидения рассматривает как настоящее, то ты уже поэтому не можешь избежать божественного предзнания-praescientia, ибо ты не сможешь избежать внутреннего взгляда на тебя настоящего» (а это всегда божественный взгляд), «хотя благодаря свободной воле ты можешь все перевернуть, использовав разные действия» [Boethius 1934, 126]. От этого внутреннего спора зависит свобода человека, сохранность его природы, достоинство и собственная жизнь.
Кажется, что книга у Боэция не завершена: были основания думать, что его освободят (об этом предположении писали многие, в том числе в книге «“Утешение философией” и другие трактаты»), поэтому он осторожно обговаривал и редуцировал арианские положения к христианским. Но с этой же целью он подводил к тому, что свобода воли может изменить случившийся временной ход событий. Или он принял бытие человеком, оспаривающим судьбу, но в таком случае книга тоже кажется не оконченной, ибо не решена проблема зла, которое, хотя и определено как ничто, но оно слишком сильно влияет на человеческую судьбу. Боэций эту мысль не додумал окончательно. Он фиксирует парадокс, связанный с всемогуществом Бога, из которого логически выводит, что зло это ничто. В диалоге Философии и Боэция Философия говорит, что
«никто не сомневается, что Бог есть всемогущий». Но это особое всемогущество, апофатическое, связанное с тем, чего Он не может. «То, чего он не может, есть ничто». Не дав Боэцию опомниться от этой несуразности, которую Боэций назвал «безвыходным лабиринтом», Философия задает новый вопрос: «Может ли Бог сотворить зло?» Получив отрицательный ответ и сопоставив оба высказывания, она делает вывод, что «зло – это ничто, потому что Он не может сделать то, что не может, ничто» [Boethius 1934, 15]. Но это не значит, что зла не может делать человек, который, по слову Боэция, тоже Бог. Не исключено, что таковой (злой) оказывается земная жизнь.
Список литературы Человек - тот, кто спорит с судьбой
- Августин 1994 - Августин. О Граде Божием. В 4 т. Т. I. М.: Изд-во Старо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря, 1994.
- Boethius 1934 - Boethius. De consolatione philosophiae // Сorpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL). Wien, 1934. V. 67.