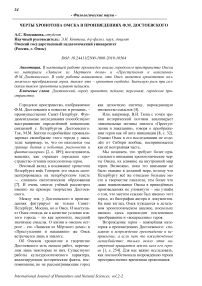Черты хронотопа Омска в произведениях Ф.М. Достоевского
Автор: Кондакова А.С., Коптева Э.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2-2 (29), 2019 года.
Бесплатный доступ
В настоящей работе произведен анализ городского пространства Омска на материале «Записок из Мертвого дома» и «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского. В ходе работы выявляется, что Омск является хронотопом возможного преображения героя, также это - хронотоп свободы. Значимую роль при создании такого хронотопа играют пейзажи.
Достоевский, город, хронотоп, пейзаж, персонаж, городское пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/170185978
IDR: 170185978 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10564
Текст научной статьи Черты хронотопа Омска в произведениях Ф.М. Достоевского
Весомый вклад в понимание хронотопа Петербурга внёс Топоров: его мысль сконцентрировалась на петербургском тексте — сложном синтетическом образовании [7]. И очень многое учёный рассмотрел именно на примере творчества Достоевского.
Между тем, у Достоевского в произведениях фигурирует не только Санкт-Петербург, Москва, но и Омск. И выступает Омск отнюдь не в качестве условно взятого города - но как хронотоп, несущий значимые смыслы. О жизни в омском остроге - его «Записки из Мёртвого дома»; в «Преступлении и наказании» же Омск встречается лишь в эпилоге.
Об Омском хронотопе в творчестве Достоевского есть немало работ, перечислим лишь некоторые из них. Существуют работы культурологического характера, анализирующие исторические факты, воспоминания, но не рассматривающие город как целостную систему, порождающую множество смыслов [4].
Или, например, В.И. Тюпа с точки зрения исторической поэтики анализирует лиминальные мотивы эпилога «Преступления и наказания», говоря о преображении героя как об акте инициации [8, с. 32]. Однако Омск в его исследовании не отделён от Сибири вообще, воспринимается как её неотрывная часть.
Мы полагаем, что требуют более пристального внимания хронотопические черты Омска, их влияние на внутренний мир героя. Возможно, пока это внимание не было оказано в должной мере, потому что Петербургу всё же отведено большее место в творчестве писателя, тем более что даже наименование Омска в приведённых произведениях не упомянуто - мы узнаём о том, что местом ссылки был именно этот город, из биографии автора и документов. На наш взгляд, Омск нуждается в детальном хронотопическом анализе, поскольку именно здесь происходит постепенное преображение и «воскресение» героя.
Возрождение героя - важнейшая категория в произведениях Достоевского: «покаяние и возрождение грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточённое самоубийство; только около этих настроений вращается жизнь всех его героев [1, с. 254]. Для нас важно исследовать, как поспособствовала возрождению героев пространственно-временная организация.
В данном исследовании нам предстоит наметить основные черты хронотопа Омска (для начала – на примере «Записок...»).
Прежде всего, стоит разграничивать хронотоп Мёртвого дома (острога) с хронотопом Омска. Сам город, ввиду наказания, герой видит редко. И то – ему доводится осуществить это только через щели забора. Острог и город противопоставлены друг другу.
Для начала отметим следующие значимые смыслы, которые актуализирует хронотоп Омска:
-
1) сопряжение с Вечностью;
-
2) особый лиризм в восприятии героем Омска;
-
3) соотнесение Омска с местом свободы;
-
4) Омск - место обретения земного рая;
-
5) хронотоп преображения и воскресения героя.
Проанализируем, как раскрываются названные смыслы – для начала на примере «Записок…».
Мы можем наблюдать, как Омск в кратких описаниях становится не частью истории, но – сверхистории, земное сопрягается с Вечностью, переносясь в неё «<...> и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдёшь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далёкого, вольного неба» [5, 11].
Это ощущение вечности как бы накладывается на ощущение насущного, « ибо в вечности, по Достоевскому, все одновременно, все сосуществует »[2, с. 37].
Уже данный фрагмент характеризуется лирической интонацией – герой получает только первые представления об остроге, а взгляд его обращён на недавно покинутую им Свободу, напоминание о которой становится наиболее пронзительным. Н.А. Бердяев отмечает, что « идея конечного, совершенного состояния человечества, земного рая играла огромную роль у Достоевского, и он раскрывает сложную диалектику, связанную с этой идеей, это – всё та же диалектика свободы » [3].
Мы полагаем, что по-особому эта черта проявилась именно в его «Записках из Мёртвого дома». Воспоминание о Свободе, связанное с хронотопом Омска, воспринимается как воспоминание о Рае на фоне Ада острога. Возможно, именно оно и поспособствует выживанию героя на каторге, сохранению им духовности.
Мир острога, в котором находился герой, – прозаичен. Людям нужна огромная физическая сила, чтобы таскать кирпичи (глава «Летняя пора»), требуется копать и выносить глину, заниматься столярной, слесарною работами. Герой, безусловно, подчиняется заданной системе, однако его внутреннее «Я» как бы срастается – не с хронотопом острога, но – с хронотопом Омска (вечности). Его внутренний мир – поэтичен, нацелен на созерцание; он постоянно подмечает красоту пейзажей, особенно на берегу Иртыша: « Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселённые, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своей пустынностью». При этом он ненавидит крепость « и особенно иные здания », в то время как на берегу герой испытывает счастливое забытие [5, с. 267-268]. Берег здесь – символ пристанища, что так жаждет герой.
В «Преступлении и наказании» же Омск выступает не столько как хронотоп земного рая, сколько – хронотоп воскресенья героя. Так же, как и в «Записках…», омский хронотоп чётко отделён от острожного: « Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог » [6, с. 432]. Описание представляет собой постепенное сужение – от большего к малому. Мы видим следующие знаки: ширь, пустошь. Пустошь – библейский знак: « Но Он уходил в пустынные места и молился» (Евангелие от Луки, 5:16). Недаром финал романа открытый: возрождению героя предстоит случиться на месте пустоты, образовавшейся на месте прощённого греха.
Для данного текста важно ещё и сопоставление хронотопа Омска с петербургским: изменяется время года (в Омске это
– весна); здесь начинается приобщение героя к иной философии – Евангельской.
Тюпа В.И., рассуждая о мифологеме Сибири, говорит о связанном с ней обряде инициации героя – человеку необходимо пережить духовную смерть, чтоб обрести воскресенье [6]. Однако, на наш взгляд, герой Достоевского проходит не просто путь инициации, но – путь Христа: каторжная судьба героя связана с самим автором, для которого было важно нести в народ то духовное, что он усвоил из своих страданий.
Именно здесь Раскольников начинает осознавать, как велика его любовь к Со- нечке; именно здесь приобщается к Евангелию, начинается «история постепенного обновления человека, постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» [8, с. 438].
Таким образом, Омск для героев Достоевского – хронотоп возможного воскресения героя (герой находится на распутье, он вправе совершать выбор). Город представлен в немногочисленных описаниях, в основном – переданных через пейзаж, но и через них мы наблюдаем особый лиризм восприятия, поэтичность, несмотря на трудности жизни в каторжном остроге.
Список литературы Черты хронотопа Омска в произведениях Ф.М. Достоевского
- Антоний (Храповицкий), архиепископ. Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Достоевского. Избранные труды, письма, материалы. - М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. - 1056 с.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений в семи томах. Т.6. Проблемы поэтики Достоевского, 1963. Работы 1960-1970-х гг. М.: Русские словари, Языки славянской культуры. 2002.
- Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. - М.: Изд-во В. Шевчук, 1997. - 542 с.
- Громыко М.М. О круге чтения Ф.М. Достоевского в Омске // Культурная жизнь Сибири XVII-XX вв. Бахрушинские чтения 1981 г. Сб. научн. трудов. - Новосибирск, 1981. - С. 124.
- Достоевский Ф.М. Записки из Мёртвого дома. Золотая коллекция классической литературы. Мировая классика. Азбука. - М., 2018.
- Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом. - М.: Художественная литература, 1978.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (введение в тему) // Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. - М., 1995.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. - 2002. - №1. - С. 27-35