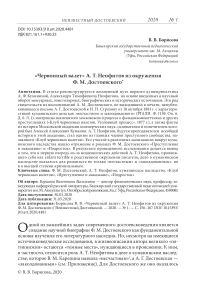«Червонный валет» А. Т. Неофитов из окружения Ф. М. Достоевского
Автор: Борисова Валентина Васильевна
Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструируется жизненный путь первого душеприказчика А. Ф. Куманиной, Александра Тимофеевича Неофитова, на основе введенных в научный оборот мемуарных, эпистолярных, биографических и исторических источников. Это ряд свидетельств из воспоминаний А. М. Достоевского, не выходивших в печати, непубликовавшееся письмо А. Г. Достоевской к Н. Н. Страхову от 18 октября 1881 г. с характеристикой куманинского дела как «несчастного и заколдованного» (РГАЛИ. Ф. 1159. Оп. 6. Д. 6. Л. 1), материалы знаменитого московского процесса о фальшивомонетчиках и других преступлениях («Клуб червонных валетов. Уголовный процесс». 1877 г.), а также факты из истории Московской академии коммерческих наук, основателем и попечителем которой был Алексей Алексеевич Куманин. А. Т. Неофитов, будучи преподавателем всеобщей истории в этой академии, стал одним из главных членов преступного сообщества, названного «Клуб червонных валетов». Его участие в различных махинациях вокруг куманинского наследства нашло отражение в романах Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Подросток». В результате проведенного исследования делается вывод о том, что в первую очередь из-за мошеннических действий А. Т. Неофитова, проявившего себя как enfant terrible в родственном окружении писателя, дело о куманинском наследстве оказалось для романиста не только «несчастным» и «заколдованным», но и в высшей степени криминальным.
Ф. м. достоевский, а. т. неофитов, куманинское наследство, "клуб червонных валетов", "преступление и наказание", "подросток"
Короткий адрес: https://sciup.org/147226019
IDR: 147226019 | УДК: 821.161.1+930.25 | DOI: 10.15393/j10.art.2020.4481
Текст научной статьи «Червонный валет» А. Т. Неофитов из окружения Ф. М. Достоевского
роковым: долгая судебная тяжба стоила ему много времени, сил, нервов и средств, ускорив кончину (см.: [Борисова: 60]).
Свод основных фактов о А. Т. Неофитове представлен С. В. Беловым в энциклопедическом словаре «Ф. М. Достоевский и его окружение» [Белов, 2001], его имя упоминается в комментариях к роману «Преступление и наказание» [Коган: 746–747], [Белов, 2011: 131–132], [Тихомиров: 218–220].
Тем не менее соотнесенные друг с другом мемуарные, эпистолярные, биографические и исторические материалы позволяют более полно раскрыть роль А. Т. Неофитова в махинациях вокруг куманинского наследства: имеется в виду его участие в качестве одного из главных членов в знаменитом преступном сообществе в Москве «Клуб червонных валетов», что нашло отражение не только в «Преступлении и наказании», но и в романе «Подросток».
Александр Тимофеевич Неофитов (род. в 1833 г.) — это лицо из ближайшего окружения семьи Достоевских, сын Елизаветы Егоровны Куманиной, которая была двоюродной племянницей Александра Алексеевича Куманина, мужа Александры Федоровны, родной тетки писателя. Елизавета Егоровна с детства жила в доме Куманиных, ее выдали замуж в 1832 году с немалым приданым от дяди. Андрей Михайлович Достоевский в своих воспоминаниях отмечает, что у Елизаветы Егоровны « капиталъ и имѣніе было по меньшей мѣрѣ тысячъ во сто! ‥»2.
В мемуарах и письмах главного биографа рода Достоевских есть и другие сведения о Неофитове — «Сашенькѣ, впослѣдствіи Александрѣ Тимофѣевичѣ», первенце Неофитовых3. С некоторой ревностью и завистью Андрей Михайлович вспоминает, что это « былъ балованнѣйшій ребенокъ, крестникъ дяди Александра Алексѣевича, который очень любилъ этого мальчишку, и кото-раго я всякій праздникъ, въ каникулярное время живши (послѣ смерти отца) у дяди, видалъ на обѣдахъ у дяди. — Тогда какъ всѣ прочія дѣти многочис-ленныхъ родственниковъ Куманиныхъ на подобные обѣды не допускались, потому что дядя, неимѣвши своихъ дѣтей, какъ то не дружелюбно смотрѣлъ на чужихъ »4.
Последний раз Андрей Михайлович встретился с Александром Неофитовым зимой 1864 г. в доме тетушки в Москве: «… онъ тогда уже былъ мужчиною лѣтъ подъ тридцать, былъ коллежскимъ ассессоромъ и преподава-телемъ Всеобщей Исторіи <…>. Мы съ нимъ возобновили знакомство, но онъ не понравился мнѣ своимъ фатовствомъ, и я это высказалъ тетушкѣ, хотя Сашенька по прежнему былъ ихъ кумиромъ »5.
С 1856 по 1865 гг. Неофитов, имея гражданский чин 8-го класса, служил профессором всеобщей истории в Московской практической академии коммерческих наук6, «главнейшим ревнителем» которой при ее создании был Алексей Алексеевич Куманин7, а почетным членом Совета — Александр Алексеевич Куманин.
Несмотря на все благодеяния со стороны богатых «дяди» и «тетушки», именно Неофитов оказался первым фигурантом в деле о куманинском наследстве и виновником того, что от завещанных Александрой Федоровной Куманиной значительных капиталов в результате мошенничества остались жалкие крохи. В отличие от другого племянника А. А. Куманина, Константина Константиновича Куманина, он проявил себя как enfant terrible8 в знаменитом семействе, что видно из письма А. М. Достоевского сестре Александре: «Мнѣ говорилъ самъ Константинъ Константиновичъ Куманинъ (бывшiй душеприкащикомъ дяди Алекс<андра> Алексѣевича), что если бы при первомъ началѣ обратились къ нему, то онъ не допустилъ бы ни копѣйки разстратить изъ капиталовъ тетушки»9. Летом 1865 г., остановившись в Москве, Андрей Михайлович узнал от родных, что «кумиръ этотъ сидѣлъ уже въ Острогѣ за поддѣлку 5ти Государственныхъ Банковыхъ билетовъ»10.
О мошенничестве с банковскими билетами много писали в крупных газетах того времени. В «Московских ведомостях», например, материалы «Дела о превращении свидетельств внутреннего 5% с выигрышами займа из настоящего их достоинства в высшие» публиковались в августе-сентябре 1865 г. и в январе 1866 г. с заголовками типа: «Профессор всеобщей истории во главе мошенников».
Так, в «Московских ведомостях» от 10 сентября 1865 г. (№ 197) сообщалось, что «среди главных участников оказался лектор всемирной истории А. Т. Неофитов. В его квартире был произведен обыск, и найдено 13 переделанных свидетельств лотерейного займа». Было упомянуто и имя Александры Федоровны Куманиной: «…из частных лиц более всего пострадала купчиха Куманина, у которой г. Неофитов занял 15 000 руб. под залог трех переделанных свидетельств в 5000 рублей каждое»11.
В суде свое участие в подделке банковских билетов Неофитов объяснил стремлением быстро получить деньги и помочь матери: «Видя затруднительное положение своих дел и дел своей матери, желая по возможности упрочить свое состояние и смотря в то же время на людей, легко обогащающихся недозволенными средствами без всякой ответственности, он, — рассказывает обозреватель процесса, — пришел к мысли воспользоваться легкостью незаконного приобретения и обеспечить себя и семейство матери своей <…>. Таковым представилась переделка свидетельств 5%-го <…> займа из 100-рублевых в 5000-е»12.
Неофитов лицемерил: его собственное жалованье составляло около 500 рублей ассигнациями в год, мать тоже нужды не знала. Хотя позже, по свидетельству Андрея Михайловича Достоевского, « бѣдная мать истратила все бывшее у нее имѣніе для спасенія сына, но конечно это не помогло. Она умерла кажется въ нищенскомъ состояніи …»13.
Оказавшись в Бутырской тюрьме, Неофитов продолжил свою преступную деятельность и стал фигурантом громкого дела о «Клубе червонных валетов» как участник шайки фальшивомонетчиков14. Это дело, следствие по которому велось 7 лет, рассматривалось Московским окружным судом в феврале-марте 1877 года. Преступное сообщество состояло преимущественно из представителей высших слоев, его члены обвинялись в том, что, действуя группами, совершали различные махинации с целью получения денежных средств. Ход процесса освещался во многих газетах, в том числе очень подробно в газете «Московские ведомости». Материалы дела, включая стенограмму судебного процесса, были впоследствии выпущены отдельным томом [Клуб червонных валетов…].
Неофитов вместе с другими арестантами обеспечил подделку денежных знаков и их поставку за пределы тюрьмы. Банковские билеты подвергались «вытравлению», чтобы изменить номинал, и передавались на волю в грязном белье. На суде было доказано «первенствующее значение» Неофитова в этих преступлениях и «сильное влияние его на окружавших его арестантов и совершенное подчинение их его убеждениям, советам и указаниям» [Клуб червонных валетов…: 98].
Осужденного Неофитова исключили из числа куманинских наследников15, а душеприказчиком вместо него был назначен Александр Павлович Иванов (муж сестры писателя, Веры Михайловны), который в свою очередь стал жертвой других аферистов из «Клуба червонных валетов», толкнувших его на невыгодные сделки с ценными бумагами. Именно они способствовали окончательному разорению Александры Федоровны Куманиной: «… съ помощью Александра Павловича подъискались частные лица, которые взяли всѣ почти капиталы тетушки изъ 10% подъ залоги недвижимыхъ имѣнiй, внесли впередъ проценты за первый годъ и на второмъ же отказались платить проценты, говоря и распространяя слухи, что дураковъ еще въ Москвѣ не мало, которые даютъ чистые денежки подъ залоги не стоющiе и половины взятой суммы. — Такимъ образомъ тетушка осталась и безъ капиталовъ и безъ процентовъ на которые можно было бы жить »16.
Одного из мошенников, Гавриила Федоровича Асафова, А. М. Достоевский назвал «адвокатомъ изъ подъ Иверской17: « Не успѣлъ я прiѣхать и освоиться въ городѣ, какъ получилъ письмо отъ неизвѣстной мнѣ личности нѣкоего Г на Асафова . Про личность эту я слышалъ еще бывши въ Москвѣ, что онъ былъ приглашенъ Алекс. Павлов. Ивановымъ завѣдывать и руководить съ юридической точки зрѣнiя, дѣлами тетушки Алекс. Ѳедоровны. — Это по разсказамъ былъ, что называется, адвокатъ изъ подъ Иверской. — Онъ то и былъ по слухамъ главнымъ сводникомъ и орудiемъ того, что Ал. Павловичъ Ивановъ рѣшился на отдачу капиталовъ тетушки въ част-ныя руки подъ залоги »18.
Можно предположить, что Г. Ф. Асафов, заверивший среди прочих лиц своей подписью духовное завещание А. Ф. Куманиной в сентябре 1865 г. и соответственно располагавший информацией о ее движимом и недвижимом имуществе, не случайно подговорил неопытного А. П. Иванова к невыгодным сделкам, что подтверждается другим нелицеприятным свидетельством А. М. Достоевского: «… Александръ Павловичъ очень былъ неопы-тенъ въ денежныхъ дѣлахъ и при томъ очень довѣрчивъ, — какъ же пiявкѣ
Асафову, знакомому со всѣмъ этимъ, не нагрѣть было руки. И вотъ онъ сосводничалъ Алекс<андру> Павловичу Яковлевыхъ и Лазаревыхъ-Станище-выхъ, доказывая ему что 10% лучше 5%, а что люди эти богачи и имѣнiя предложенныя въ залогъ, чуть ли не золотое дно; и что занимая у тетки деньги изъ 10%, они чуть ли не благодѣянiе дѣлаютъ этимъ. Александръ Павловичъ соблазнился и дѣло было сдѣлано »19.
Позже адвокат В. И. Веселовский, познакомившись с фальшивыми сведениями, обозначенными в залоговых свидетельствах, назвал подробности о сделках с Ивановым и Асафовым при займе денег весьма нехорошими: « Въ слѣдующемъ за тѣмъ письмѣ отъ 1 го Сентября <1868 г.>, Веселовскiй писалъ, что Яковлевъ устрашенный Уголовнымъ преслѣдованiемъ за фаль-шивыя свѣдѣнiя обозначенныя въ залоговыхъ свидѣтельствахъ, прискакалъ къ нему Веселовскому, и между прочимъ разсказалъ ему подробности о сдѣлкахъ съ Ивановымъ и Асафовымъ при займѣ денегъ, подробности нехорошiя, до-бавляетъ Веселовскiй, ежели они вѣрны и правдивы! »20. В деле о «червонных валетах» на суде разбиралось 13 подобных вовлечений в невыгодные сделки.
Нашумевшее уголовное дело с участием Неофитова в наибольшей степени отразилось в романе «Преступление и наказание». На этот источник первой обратила внимание Г. Ф. Коган, связав с ним высказывание Лужина о московской шайке фальшивомонетчиков [Коган: 746–747].
Во время встречи с Раскольниковым Лужин, подключившись к обсуждению убийства старухи-процентщицы, рассуждает о глобальных изменениях в обществе, которые подталкивают к нарушению закона не только представителей низших слоев, но и людей образованных: «…там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают; там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей, — и в главных участниках один лектор всемирной истории <…> И если теперь эта старуха процентщица убита одним из закладчиков, то и это, стало быть, был человек из общества более высшего, — ибо мужики не закладывают золотых вещей…» [Достоевский, 6: 117–118].
С. В. Белов в своем комментарии отметил, что современники увидели в этих словах отражение нашумевшей криминальной истории [Белов, 2011: 131]. Так, в тексте романа остались следы признания Неофитова, объяснившего на суде свое участие в преступном замысле: «А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал: “Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть”» [Достоевский, 6: 118]. Схожая мотивировка Раскольникова зафиксирована в черновых записях к роману: «Я хотел обеспечить себя и мать…» [Достоевский, 7: 166].
Б. Н. Тихомиров в результате тщательного текстологического анализа подготовительных материалов к «Преступлению и наказанию» установил, следующее: они «позволяют заключить, что в ранних замыслах процесс московских фальшивомонетчиков должен был получить в “Преступлении и наказании” более широкое отражение. См.: “Он [Раскольников] читает
(видимо, газеты. — Б. Т.) и думает: про Неофитова, про Гаврилова (Коха) и проч.” ( Д . Т. 7; 152)» [Тихомиров: 218–220].
На наш взгляд, эпизод с чтением и обсуждением газетных материалов о московском уголовном деле сохранился и в окончательном тексте романа, что видно из беседы Раскольникова и Заметова. Она подтверждает то, что писатель был хорошо знаком со всеми обстоятельствами преступления с ценными бумагами, о которых писалось в газетах:
«— Нынче много этих мошенничеств развелось, — сказал Заметов. — Вот недавно еще я читал в “Московских ведомостях”, что в Москве целую шайку фальшивых монетчиков изловили. Целое общество было. Подделывали билеты» [Достоевский, 6: 126].
Раскольников, демонстрируя свою осведомленность, иронизирует над неопытностью членов шайки («Это дети, бланбеки, а не мошенники!») и в свою очередь, говорит: «…и разменять-то не умели: стал в конторе менять, получил пять тысяч, и руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял не считая, на веру, чтобы только в карман да убежать поскорее. Ну, и возбудил подозрение» [Достоевский, 6: 126].
Здесь имеется в виду реальный случай, который помог разоблачить Не-офитова и его сообщников. Раскольников прямо говорит, что узнал об этом из газет: «—О, это уже давно! Я еще месяц назад читал» [Достоевский, 6: 126], [Тихомиров: 236]. В одну из московских контор пришел молодой студент П. Виноградов, предложивший выкупить свидетельство государственного займа в 5000 рублей, но, пересчитывая полученные деньги, он сбился и вызвал у кассира подозрение. Когда студента арестовали, выяснилось, что его наняли за 100 рублей, после чего по цепочке посредников следствие вышло на фальшивомонетчиков, которые переделывали сторублевые билеты в пятитысячные, обменивая их на настоящие деньги или отправляя подставных лиц разменивать билеты внутреннего займа в частных конторах21.
Высмеивая поведение студента, Раскольников рассуждает о том, как бы он повел себя в такой ситуации:
«Я бы не так сделал, — начал он издалека. — Я бы вот как стал менять: пересчитал бы первую тысячу, этак раза четыре со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу; начал бы ее считать, досчитал бы до средины, да и вынул бы какую-нибудь пятидесятирублевую, да на свет, да переворотил бы ее и опять на свет — не фальшивая ли? “Я, дескать, боюсь: у меня родственница одна двадцать пять рублей таким образом намедни потеряла”; и историю бы тут рассказал. А как стал бы третью тысячу считать — нет, позвольте: я, кажется, там, во второй тысяче, седьмую сотню неверно сосчитал, сомнение берет, да бросил бы третью, да опять за вторую, — да этак бы все-то пять. А как кончил бы, из пятой да из второй вынул бы по кредитке, да опять на свет, да опять сомнительно,
“перемените, пожалуйста”, — да до седьмого поту конторщика бы довел, так что он меня как и с рук-то сбыть уж не знал бы! Кончил бы всё наконец, пошел, двери бы отворил — да нет, извините, опять воротился, спросить о чем-нибудь, объяснение какое-нибудь получить, — вот я бы как сделал!» [Достоевский, 6: 127].
Но, как и Раскольников, Неофитов был отправлен в Сибирь. На заседании Московского окружного суда с участием присяжных заседателей 5 марта 1877 г. ему был вынесен приговор о поселении в «места не столь отдаленные» (Западную Сибирь).
История «червонных валетов» отразилась не только в «Преступлении и наказании». В романе «Подросток», начатом в феврале 1874-го и законченном в ноябре 1875 г., с перипетиями шумного московского процесса связана сюжетная линия взаимоотношений Ламберта и Аркадия Долгорукова:
«Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень, и даже прямо, мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом и на что подыскивают теперь в своде законов определения и наказания. Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ (впоследствии она была отчасти обнаружена). Я слышал потом, что в Москве у них, некоторое время, был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою и по частям. Производили же, рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами (о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах), — и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей» [Достоевский, 13: 322].
Многократное упоминание о шайке в этом фрагменте записок Подростка не случайно. Выступая с обвинительной речью на последнем заседании Московского окружного суда, помощник прокурора Н. В. Муравьев доказывал, что элитные преступники объединились именно в шайку, назвав себя «червонными валетами» [Клуб червонных валетов…: 183]. Обвинитель отнес их к своеобразному и характерному «типу нравственной порчи, зла и преступления»: «Это преступник, обладающий изящными манерами, хорошо воспитанный, занимающий видное общественное положение, имеющий благородное, нередко аристократическое происхождение» [Клуб червонных валетов…: 184].
И другие свидетельства о преступлениях шайки в Москве (« довольно сложные и даже хитрые предприятия ») явно связаны с ходом процесса по делу о «червонных валетах» (« на что подыскивают теперь в своде законов определения и наказания »), широко освещавшегося в столичных газетах (« известия уже являлись в газетах »).
Сама же характеристика руководителя шайки (« чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек »), на наш взгляд, перекликается с судебным описанием облика Неофитова: «Неофитов человек более чем средних лет, с продолговатою физиономией, окаймленной черною, местами с проседью бородою, с гладко зачесанными волосами, с спокойными глазами, с степенными манерами. Кажется серьезным человеком, как и подобает быть тюремному старожилу. В его физиономии есть нечто сдержанное» [Клуб червонных валетов…: 163].
И, хотя А. Т. Неофитов как прототип остался на периферии романа «Подросток», нельзя отрицать того, что в течение целого десятилетия он входил в орбиту жизни и творчества Достоевского. Писатель не мог не догадываться о том, что во многом из-за него «дело о куманинском наследстве» оказалось не только «несчастным» и «заколдованным», но и в высшей степени криминальным, что нашло соответствующее отражение в его произведениях 1860–1870-гг.
Приложение
Письмо А. Г. Достоевской к Н. Н. Страхову от 18 октября 1881 г.
Источник: РГАЛИ. Ф. 1159. Оп. 6. Д. 6. Л. 1.
Публикуется впервые.
18 Окт. 1881 г.
Можете себѣ представить, многоуважаемый Николай Николаевичь, что я все еще въ Москвѣ и сама хорошенько не знаю когда отсюда выѣду! Это какое-то несчастное, точно заколдованное наслѣдство: думаешь все кончено, всѣ формальности исполнены, можно завтра ѣхать, — не тутъ-то было, какая нибудь бездѣлица и дѣло затягивается опять на долгое время. На дняхъ я была въ Рязани и тамъ блистательно исполнила мои дѣла: благодаря рекомендательнымъ письмамъ для меня сдѣлала Опека и Судъ въ три дня то, что обыкновеннымъ порядкомъ идетъ года полтора. Я не знала какъ и радоваться и уѣхала въ деревню на пять дней.
Возвращаюсь, иду въ Опеку за бумагами и тамъ мнѣ, съ самымъ любез-нымъ видомъ, увѣряютъ что бумаги мои уже отосланы. — Куда? — Въ Пе-тербургъ. — Да кто Васъ просилъ отсылать туда? — Его Превосходительство очень спѣшили кончить дѣло, мы и выслали ихъ въ тотъ же день въ Двор. Опеку. Вотъ ужъ медвѣжья услуга! Раздѣлъ будетъ въ Москвѣ, а бумаги мои уѣхали въ Петербургъ. Теперь пока-то они вернутся сюда, а дѣло только за мной и можетъ пожалуй расклеиться. Ну развѣ это не обидно, развѣ нельзя сойти съ ума отъ всѣхъ этихъ проволочекъ и неожиданностей? Да вотъ хоть бы моя поѣздка въ деревню? Выѣхала въ чудесный осенній день и проѣхала 84 версты до деревни отлично. И вдругъ въ ночь дѣлается мятель и снѣгу наноситъ страшно1 много, вотъ въ такую-то погоду2 я ѣду осматривать отведенные мнѣ участки; на другой день тоже мятель и сильный морозъ, и наконецъ, возвращаясь, дѣлаю 84 версты вмѣсто сутокъ въ двое сутокъ3. Дорогой останавливаюсь во всѣхъ встрѣчныхъ деревняхъ и съ отчаяніемъ думаю что могу простудить Ѳедю. (Лилю я оставила въ Москвѣ.) Ѳедю я укутала всѣмъ что было теплаго и онъ не мерзъ, но я продрогла до костей. Къ довершенію горя на Окѣ развели мостъ и пришлось переѣзжать на паромѣ. И вотъ вернулась въ Рязань и стало таять. Надо же быть такому несчастью, что именно пока я была и ѣхала изъ деревни была страшная погода, а раньше и позже отличная. Ну развѣ не заколдованное это наслѣдство! Но не смотря на всѣ мои мученія я очень довольна моей поѣздкой въ деревню. Представьте себѣ, оказалось что на4 мою долю отдѣлено 200 десят. cтроеваго лѣса въ 30 лѣтъ и вдругъ между этими 200 дес. оказалось около 70 дес. омшары, т. е. кочковатаго болота съ мхомъ въ кисть толщиной. А между тѣмъ Шеръ завѣрялъ меня честью, что ни порубокъ, ни омшаръ въ моей части нѣтъ. Указали мнѣ на омшару деревенскіе старики, съ которыми я по душѣ поговорила, и я велѣла везти себя именно въ мою часть и собственными глазами видѣла это болото. Теперь, возвратясь въ Москву, я потребовала отъ Шера написанія условія, по которому за всякую десятину омшары, которая попадется въ моемъ участкѣ, онъ дол-женъ прирѣзать десятину строеваго лѣса. А такъ какъ я узнала въ деревнѣ про нѣкот. его неблаговидныя дѣла по управленію имѣніемъ, то и заставила его согласиться на мои требованія. Что за подлецы! Не поѣзжай я въ деревню и досталась бы мнѣ эта омшара.
<На полях:> Вы спросите, зачѣмъ я написала Вамъ это письмо? А потому что женщина, какъ существо низшее, не можетъ не быть болтлива и не излить свою душу и т. д. и т. д.
Уважающая Васъ А. Достоевская.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90013 Достоевский («“Дело о куманинском наследстве” в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского»).
-
1 См. письмо В. М. Карепиной к А. М. Достоевскому от 28 мая 1873 г. // РО ИРЛИ. Ф. 56. № 81. Л. 4 об. Ср.: [Ланский: Т. 86, с. 432].
-
2 Достоевский А. М. Воспоминания // РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 54 (л. 139 об.), где первая цифра дана по нумерации А. М. Достоевского, вторая — по архивной.
Там же. C. 53 (л. 139).
Там же.
Там же. С. 54 (л. 139 об.).
См: Столетие Московской практической академии коммерческих наук. М.: тип. И. Д. Сытина, 1910. С. 731 (А. Т. Неофитов значится в списке преподавателей истории под номером 14). Судя по всему, служил он добросовестно: в 1859 г. ему была объявлена благодарность за составление литографированного курса по истории, 4 декабря 1860 г. — «за составленіе извлеченія изъ исторіи Академіи» (см. об этом: Глебов И. История Московской академии коммерческих наук (1810–1860). М., 1860. С. 620, 637). Составитель «Истории Московской академии коммерческих наук» (М., 1860), ее преподаватель Иван Глебов выразил признательность «достопочтеннымъ товарищамъ своимъ, в том числе и А. Т. Неофитову, за прекрасные извлеченія и разработку матеріаловъ» (с. 667–668) для сборника, посвященного 50-летнему юбилею Академии, которую Неофитов впоследствии опозорил своим участием в деле фальшивомонетчиков (с. 667–668).
В 1806 г. Алексей Алексеевич Куманин стал основателем, а впоследствии и попечителем Академии, также, как и его сыновья Константин, Валентин и Александр. См. об этом: Глебов И. История Московской академии коммерческих наук (1810–1860). М., 1860. С. 8–9, 16, 18, 27. Здесь же (на стр. 444, 445, 447, 460) представлены сведения о пожертвованиях Куманиных-младших в фонд Академии: («Усвоивъ как-бы по наслѣдству отъ своего родителя, достопамятнаго благодѣтеля Академіи, любовь къ ней, они не переставали обнаруживать свою великодушную заботливость о благѣ заведенія и обильными приношеніями, и личнымъ участиіемъ въ трудахъ общества любителей коммерческихъ знаній». — С. 463).
фр.: «ужасный, несносный ребенок / человек».
РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 1140–1141 (л. 688 об. — 689).
РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 54 (л. 139 об.).
Московские ведомости. 1865. 10 сентября. № 197.
Московские ведомости. 1866. 10 января. № 1.
РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 54 (л. 139 об.).
На XXX Международных чтениях «Достоевский и современность» 22 мая 2016 г. об этом говорил Н. В. Паншев в докладе «Преступные сообщества в России 60–70-х гг. XIX века». Из письма А. М. Достоевского к Ф. М. Достоевскому от 30 сентября 1869 г., переписанного в воспоминаниях: «… я во время пребыванiя въ Москвѣ узналъ что вслѣдствiе арестованiя Неофитова, по случаю поддѣлки имъ Свидѣтельствъ на 5% билеты, и вслѣдствiе того, что онъ обманулъ и тетушку на 15 т<ысячъ> рублей, — завѣщанiе переписано, что Неофитовъ вовсе исключенъ изъ числа наслѣдниковъ » (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 1068 (л. 652 об.)).
Там же. С. 1026 (л. 632 об.).
Такой «аблокат не имеет ничего общего с людьми, аккредитованными судом и институтом присяжных поверенных. Он торгует без патента», часто совершая деяния, не предусмотренные законом (см.: И. Ф. Горбунов. Иверские юристы // Горбунов И. Ф. Очерки о старой Москве. 1881. . Простонародное прозвище «аблакаты из-под Иверской» получили за то, что поджидали своих клиентов у Иверских ворот в Москве. Здесь «иверские юристы», изгнанные из московских палат, судов и приказов, писали со слов просителей просьбы, отзывы, давали консультации. РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 1028 (л. 632–632 об.).
РО ИРЛИ. Ф. 56 № 1. С. 1042 (л. 639 об).
РО ИРЛИ. Ф. 56. № 1. С. 1048 (л. 642 об).
См. об этом: Московские ведомости. 1866. 1 января. № 1.
Список литературы «Червонный валет» А. Т. Неофитов из окружения Ф. М. Достоевского
- Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его окружение. Энциклопедический словарь: в 2-х т. - СПб.: Алетейя, 2001. - Т. 2. - 544 с.
- Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". Комментарий. - 4-е изд. - М.: Либроком, 2011. - 240 с.
- Борисова В. В. Нравственные и юридические аспекты "куманинского дела" // Неизвестный Достоевский. - 2019. - № 1. - С. 46-68 [Электронный ресурс]. - URL: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1554980398.pdf (18.01.2020). 10.15393/j10.art.2019.3786 (In Russ.) DOI: 10.15393/j10.art.2019.3786(InRuss.)
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. - Л.: Наука. - 1972-1990.
- Клуб червонных валетов. Уголовный процесс. - М.: тип. М. Н. Лаврова и Кο, 1877. - 593 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003607591#?page=1 (18.01.2020).
- Коган Г. В. Примечания // Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. - М., 1970. - С. 746-747. (Серия "Литературные памятники").
- Ланский Л. Р. Достоевский в неизданной переписке современников (1837-1881) // Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. - М.: Наука, 1973. - С. 349-564. (Серия Литературное наследство; 86)
- Тихомиров Б. Н. "Лазарь! гряди вон". Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание в современном прочтении: Книга-комментарий. - 2-е изд. испр. и доп. - СПб.: Серебряный век, 2016. - 560 с.