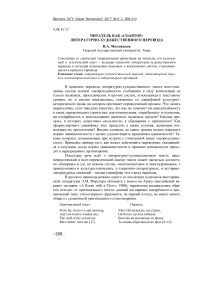Читатель как "соавтор" литературно-художественного перевода
Автор: Миловидов Виктор Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Сочетаемая со стратегией генерализации ориентация на читателя, его культурный и эстетический опыт – ведущая стратегия литературно-художественного перевода в ситуации асимметрии языковых и внеязыковых систем, сталкивающихся в процессе перевода.
Литературно-художественный перевод, стихотворный перевод, асимметрия языковых и литературных традиций
Короткий адрес: https://sciup.org/146122038
IDR: 146122038 | УДК: 81’25
Текст научной статьи Читатель как "соавтор" литературно-художественного перевода
В практике перевода литературно-художественного текста многочисленны случаи полной «непроходимости» сообщения в силу асимметрии не только языковых, просодических и прочих систем, относящихся к текстовому уровню, но и систем внеязыковых, связанных со спецификой культурноисторического фона, на котором протекает переводческий процесс. Что делать переводчику, если заведомо известно, что ему не поможет ни осведомлённость в таких переводческих стратегиях, как компенсация, «переброска» и опущение, ни изощрённость в использовании наличных языковых средств? Каковы пределы, в которых допустимы «вольности» в обращении с оригиналом? Как сформулировать специфику этих пределов, а также условия, делающие возможным их преодоление? Иными словами, до каких границ можно нарушать нормы эквивалентности с целью удовлетворить принципам адекватности? Таковы вопросы, возникающие при встрече с отмеченной выше «непроходимостью». Приведём пример того, как может действовать переводчик, оказавшийся в ситуации, когда нормы эквивалентности и принцип адекватности приходят в неразрешимое противоречие.
Поскольку речь идёт о литературно-художественном тексте, пред-переводческий и пост-переводческий анализ текста может оказаться достаточно обширным и уж, во всяком случае, многоаспектным и многоуровневым, с привлечением и культурологических, и теоретико-литературных, и историколитературных сведений – такова специфика этого вида перевода.
В русском перевода романа одного из последних классиков викторианской литературы Э.М. Форстера «Комната с видом на Арно» (английский вариант заглавия: «A Room with a View», 1908), переводчик радикальным образом отходит от оригинального текста: данный им вариант внедрённого в прозаический текст стихотворного фрагмента, на первый взгляд, не имеет ничего общего с семантикой оригинального стихотворения.
Оригинальный текст:
From far, from eve and morning, And yon twelve-winded sky, The stuff of life to knit me Blew hither: here am I [7].
Перевод:
Увы! Ни надежды, ни страха, Ни бога в пустых небесах.
Восстав на мгновенье из праха, Ты вновь обратишься во прах [4: 41]
Понятно, что, как писал В.А. Жуковский, в переводе поэзии переводчик - «соперник» оригинальному автору. Но не до такой же степени! Ни один из «концептов» перевода не имеет аналогов в содержательности оригинала.
И все-таки логика в столь радикальном отходе от оригинала, в такой «динамизации» принципа эквивалентности есть. Эта логика вполне постигаема не в рамках классической теории перевода, центрированной на текстах оригинала и перевода, а в рамках теории современной, формирующейся на основе нового, «антропоцентрического» подхода к языку и его функционированию в культуре.
При определении качества перевода данный подход исходит из учёта значительного количества и лингвистических, и, главное, внелингвистических факторов, таких как:
-
- структурные характеристики, экспрессивный потенциал и ограничения, которые на процесс перевода налагают две языковые системы;
-
- характеристики внелингвистической действительности, которые по-разному сформатированы исходным и переводящим языками;
-
- лингво-стилистические и эстетические характеристики исходного текста в их соотнесенности с нормами, релевантными для лингвокультурного сообщества страны ИЯ;
-
- лингво-стилистические и эстетические нормы, характерные для принимающего лингвокультурного сообщества;
-
- степень владения переводчиком ИЯ;
-
- интертекстуальность, управляющая целостностью исходного текста;
-
- традиции, принципы, история и идеология перевода, характерные для принимающей культуры;
-
- «задание», данное переводчику человеком или институтом, заказавшим перевод;
-
- условия рабочего места переводчика;
-
- присущая переводчику сумма знаний и умений, а также этическая позиция и выработанная самим переводчиком «личная» теория перевода;
-
- представления «потребителя» перевода о присущей переводчику сумме знаний и умений, а также его этической позиции и выработанной самим переводчиком его «личной» теории перевода [8: 2-3].
Приведённый достаточно полный перечень лингвистических и вне-лингвистических факторов, актуальных как для переводчика, так и для его «ценителя», взят из последней крупной работы Джулиан Хаус, одного из ведущих специалистов в сфере «антропологизированного» переводоведения. И всё-таки в этом подробнейшем перечне нет одного существенного пункта, который помог бы нам оценить приведённый выше поистине неэквивалентный перевод из Э.М. Форстера как вполне достойный, т.е. адекватный.
Попробуем разобраться в этом переводе и, на основе этого разбора, вывести ещё один критерий, который позволил бы оправдать переводчика «Комнаты с видом на Арно» в той вольности, которую он допустил.
Контекстом для англоязычного стихотворного фрагмента является эпизод романа, где некий мистер Эмерсон рассказывает главной героине, девушке Люси Ханичёрч, о причинах пессимистических настроений своего юного сына
Джорджа (впоследствии, женившись на Люси, Джордж успешно преодолеет свой пессимизм – в полном соответствии с духом и эстетикой викторианства):
"And what is it?" asked Lucy fearfully, expecting some harrowing tale.
"The old trouble; things won't fit."
"What things?"
"The things of the universe. It is quite true. They don't."
"Oh, Mr. Emerson, whatever do you mean?"
In his ordinary voice, so that she scarcely realized he was quoting poetry, he said:
"From far, from eve and morning,
And yon twelve-winded sky, The stuff of life to knit me Blew hither: here am I.”
George and I both know this, but why does it distress him? We know that we come from the winds, and that we shall return to them; that all life is perhaps a knot, a tangle, a blemish in the eternal smoothness. But why should this make us unhappy? Let us rather love one another, and work and rejoice. I don't believe in this world sorrow" [7].
Самое интересное: процитированный Эмерсоном текст есть лишь первая строфа одного из стихотворений, включённых в известнейший цикл Альфреда Хаусмана «Шропширский парень» («The Shropshire Lad»). Полный текст содержит ещё две строфы, и в этих двух строфах получает развитие и завершение целостный лирический сюжет, который, действительно, является наиболее полным воплощением викторианского пессимизма:
Now—for a breath I tarry Nor yet disperse apart— Take my hand quick and tell me, What have you in your heart.
Speak now, and I will answer;
How shall I help you, say;
Ere to the wind’s twelve quarters
I take my endless way [9].
Выразителями же этого пессимизма в Англии второй половины XIX века была целая группа поэтов: и А. Хаусман, и Ч.А. Суинберн, и У. Хенли, и Т. Гарди, и, наконец, Дж. Томсон, написавший, пожалуй, самую мрачную поэму всех времен и народов, «Город Страшной Ночи» («The City of Dreadful Night»). В их поэтическом творчестве с поразительной настойчивостью и повторяются темы, которые эксплуатирует Хаусман: бренность и мимолётность человеческого существования, отсутствие надежды, «пустота небес» и так далее. Всё это есть в стихотворении Хаусмана, включённом в оригинальный текст Форстера.
Кстати, переводчик романа на русский язык мог бы найти в «банке» русских стихотворных переводов текст, выполненный Г.М. Кружковым, который отлично перевёл крайне сложный текст Хаусмана, при этом весьма деликатно транспонировал кельтскую мифологему «двенадцати ветров» на привычный для нас язык, сократив количество сторон света до четырёх:
Из тьмы ночей, из дали
О четырёх ветрах
Примчало и слепило
Мой ждавший жизни прах.
Вот вновь они подуют
И в небо пыль взметут…
Держи же эту руку,
Когда ещё я тут.
Скажи мне, что с тобою
И в чем твоя печаль, —
Пока, развеян ветром, Я не унесся вдаль [5].
Но ведь в оригинальный текст романа включена только одна строфа из трёх! А современный переводчик, в отличие от, допустим, Иринарха Введенского, не имеет право «наращивать» свой текст; ведь это означало бы в три раза увеличить словесную массу эпизода!
Почему Форстер даёт не целое стихотворение автора, а лишь первую строфу? Для англоязычного читателя оригинального текста этого вполне достаточно: как любой русский человек, услышавший «Мой дядя самых честных правил…», без труда достроит в своей памяти семантику всего романа А. Пушкина, так и любой англоязычный читатель, прочитав первую строфу из Хаусмана, реконструирует полный лирический сюжет стихотворения - со всеми мировоззренческими импликатурами. Англоязычный читатель - но не русский!
Переводчик ограничен пространством одной строфы, а первая строфа -даже в мастерском переводе Г.М. Кружкова - не даст русскому читателю Хаусмана представления о полном тексте английского поэта и - шире - о смысле всего эпизода романа.
Писатель - не тот, кто пишет, а тот, кого читают. В полной мере это относится и к переводчику, который является посредником между культурами оригинала и перевода. Поэтому, наряду с теми факторами, которые перечисляет Дж. Хаус, мы бы включили и развернули ещё один: ориентация на читателя и те конвенции чтения литературно-художественного текста, которые приняты в принимающей культуре. Ведь сказано же Ц. Тодоровым, что эстетическая ценность произведения выявляется лишь «в тот момент, когда произведение вступает в контакт с читателем» [3: 107]. По сути, читатель становится настоящим соавтором перевода. Поэтому ориентация на читателя, удовлетворение, прежде всего, культурно-эстетических представлений и вкусов читателя, и во имя этого - необходимо жёсткая адаптация оригинального текста, - таковой, вероятно, должна быть стратегия прохождения «непроходимых» мест в оригинальном тексте.
Но только не комментарий (о нежелательности комментирования перевода литературно-художественного см.: [2])!
И, вместе с тем, описанный выше фактор, конечно же, может сочетаться с уже существующими и хорошо описанными стратегиями перевода. Наверное, наиболее надёжной из них станет стратегия генерализации. К ней, в условиях «непроходимости» сообщения, прибегают многие переводчики.
Так, переводя в 1985 году на английский язык свое десятилетней давности стихотворение «In Memoriam», эту стратегию использует И. Бродский.
Русский вариант стихотворения Бродского включает хорошо знакомые жителю Северо-Запада СССР русский и эстонский топонимы:
Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга.
Нет, как платформа с вывеской Вырица или Тарту... [1: 26].
В английском варианте конкретные русские и эстонские топонимы уступают место обобщенно-русскому и обобщенно-эстонскому (данных топонимов на железнодорожных картах СССР времен создания англоязычного варианта стихотворения не существовало, но в структуре вымышленных топонимов ясно просматривается «намёк» на их национальную принадлежность):
The thought of you is receding like a chambermaid given notice.
No! Like a railway platform with block-lettered DVINSK or TATRAS [6: 127].
В указанном фрагменте из русского варианта романа Форстера генерализация призвана скомпенсировать для русскоязычного читателя результат запрета на использование в переводе, помимо первой строфы, строф второй и третьей, а также запрета на комментарий, где можно было бы провести данную компенсацию. Второй задачей переводчика было «уместить» в одной строфе всю семантику полного оригинального стихотворения А. Хаусмана и, по возможности (поскольку речь идёт о генерализации), дать общие контуры миропонимания английских поэтов второй половины века, любого из них – список дан выше.
Многие поэтические эпохи вырабатывают свою систему мотивов и лейтмотивов, которые странствуют из одного произведения в другое, из творчества одного автора в стихи автора другого. Можно найти подобные клишированные мотивы (концепты) и в «пессимистической» поэзии Англии второй половины XIX века. Отсутствие «надежды», но и «страха» («no hope, no fear») – естественное следствие атеизма, который лежал в основании пессимистической поэзии. Но если у самого А. Хаусмана данный бинарный концепт не реализуется через указанные дескрипторы, то последние можно найти и «занять» в стихах иных поэтов – «единомышленников» автора «Шропширского парня», например, у А.Ч. Суинберна в его «Саде Прозерпины»:
From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be
That no life lives forever;
That dead men rise up never;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea [10].
А также у «лауреата» викторианского пессимизма, Дж. Томсона, в его «Городе Страшной Ночи»:
Yet I strode on austere;
No hope could have no fear [11].
Воплотив в тексте перевода данные опорные концепты, переводчик смог завершить работу над стихотворным фрагментом, вписав в одну строфу рассредоточенную по трём строфам оригинального стихотворения Хаусмана тему бренности и скоротечности земного существования в мире, лишённом бога. При этом четверостишье перевода становится репрезентантом не только оригинального текста Хаусмана, содержащего три строфы, но и существенного пласта современной Хаусману поэзии, в которой воплотился пессимизм, тер- зающий юного Джорджа Эмерсона из романа Э.М. Форстера. «Непроходимость» пройдена, цель перевода достигнута.
Откуда у автора настоящей статьи уверенность, что в процессе перевода данного эпизода романа дело обстояло именно таким образом? Автору споспешествовала удача: он был, кроме всего прочего, и автором анализируемого перевода. А разве практика – не самый надёжный фундамент теории?
Список литературы Читатель как "соавтор" литературно-художественного перевода
- Бродский И. «Мысль о тебе удаляется как разжалованная прислуга…»//Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т./под общ. ред. Я.А. Гордина. СПб.: Пушкинский фонд, 1998-2001. Т.4. Изд.2. 432 c.
- Миловидов В.А. Эстетическая специфика художественного текста и проблема переводческого комментария//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология», 2014. № 4. C. 256-262.
- Тодоров Ц. Поэтика//Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 37-143.
- Форстер Э.М. Комната с видом на Арно. М.: АСТ. 2015. 288 с.
- Хаусман А. Шропширский парень: перевод Г.М. Кружкова . URL: http://kruzhkov.net/translations/english-poetry/alfred-edward-housman/(дата обращения 05.04.2017).
- Brodsky J. To Urania: Selected Poems. London: Penguin Books, 1988. 174 p.
- Forster E.M. A Room with a View . URL: https://www.gutenberg.org/files/2641/2641-h/2641-h.htm (дата обращения 05.04.2017).
- House J. Translation Quality Assessment. London & New York: Routledge, 2015. 160 c.
- Housman A. The Shropshire Lad . URL: http://www.bartleby.com/123/32.html (дата обращения 05.04.2017).
- Swinburne A.C. The Garden of Proserpine . URL: https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/45288 (дата обращения 05.04.2017).
- Thomson J. The City of Dreadful Night . URL: https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/45407 (дата обращения 05.04.2017).