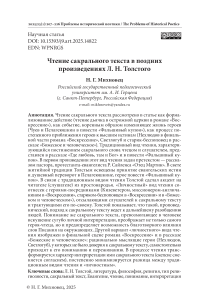Чтение сакрального текста в поздних произведениях Л. Н. Толстого
Автор: Михновец Н.Г.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Чтение сакрального текста рассмотрено в статье как формализованное действие (чтение дьячка в острожной церкви в романе «Воскресение»), как событие, коренным образом изменяющее жизнь героев (Чуев и Пелагеюшкин в повести «Фальшивый купон»), как процесс постепенного приближения героев к высшим истинам (Нехлюдов в финальной части романа «Воскресение», Светлогуб и старик-беспоповец в рассказе «Божеское и человеческое»). Традиционный вид чтения, характеризующийся постижением сакрального слова чтецом и слушателем, представлен в рассказе «Где любовь, там и Бог» и в повести «Фальшивый купон». В первом произведении этот вид чтения задан претекстом - рассказом пастора, протестанта-евангелиста Р. Сайленса «Отец Мартин». В свете житийной традиции Толстым освещены принятие евангельских истин и душевный переворот в Пелагеюшкине, герое повести «Фальшивый купон». В связи с традиционным видом чтения Толстой сделал акцент на читателе (слушателе) из простонародья. «Личностный» вид чтения со- отнесен с героями-посредниками (Кизеветером, миссионером-англичанином в «Воскресении», стариком-беспоповцем в «Воскресении» и в «Божеском и человеческом»), отсылающими слушателей к сакральному тексту и трактующими его по-своему. Толстой показывает, что такой, проповеднический, подход к сакральному тексту ведет к дальнейшему разобщению людей. Понимание же сакрального текста, превозмогающее в человеке искушение сугубо личной интерпретации, преображает не только самого героя-чтеца, но и предопределяет возможность благотворного влияния слов Писания на окружающих. Другой вариант «личностного» вида чтения изображен в финальной сцене романа «Воскресение» и в рассказе «Божеское и человеческое»: рационально мыслящие герои (Нехлюдов, Светлогуб), у которых не было доверия к сакральному тексту, самостоятельно приходят к его пониманию и переживанию. В процессе чтения трансформируется характер интерпретации ими сакрального текста (скепсис сменяется согласием), постепенно минимизируется разница между традиционным видом чтения и «личностным».
Л. н. толстой, литература, философия, религия, тип религиозности, сакральный текст, евангелие, чтение, понимание, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147247807
IDR: 147247807 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.14822
Текст научной статьи Чтение сакрального текста в поздних произведениях Л. Н. Толстого
П ротоиерей Георгий Ореханов в книге с броским названием
«Лев Толстой. "Пророк без чести": хроника катастрофы» пишет о сложившемся к концу XIX столетия противостоянии между религиозностью «традиционно христианской и церковной» и — «нового типа». Начало истории последней было положено еще в XVI–XVII вв., а продолжение поддержано эпохой Просвещения. «Религиозности нового типа», по его мнению, присущи отрицание чуда и догмы, признание исключительной «власти разума», а также « новые религиозные формы »1 [Ореханов: 17, 50], так в ходе исторического развития заявляет себя «претензия на новое понимание сакрального» [Ореханов: 50]. Заметим, что саму тенденцию модернизации православный священник воспринял критически.
Одним из факторов, характеризующих культурную ситуацию рубежа XIX–XX вв., является изменяющийся характер чтения сакрального текста. Продолжает расширяться и укрепляться давняя традиция чтения на основе выборки2, настойчиво заявляет о себе тенденция к обновлению традиционных трактовок. Однако главное заключается в том, что на первый план выходит читатель, взыскующий истины, интерпретирующий этот текст и прокладывающий к ней индивидуальный путь на основе собственного понимания.
Знаменательно появление в 1974 г. книги «Молитвенное чтение Священного Писания» Э. Бьянки, современного итальянского церковного деятеля, проповедника и богослова. Как полагает архимандрит Иосиф (Пустоутов), Э. Бьянки ратует за «возвращение к традиционному чтению и восприятию Священного Писания через святоотеческую традицию, через громадный духовный опыт монашества, опыт, накопленный Церковью Христовой за две тысячи лет ее земного бытия» [Иосиф (Пустоутов), архимандрит: 3]. Подчеркнем, что Бьянки делает акцент на «возвращении».
Толстой мыслил в другой перспективе: необходимо согласовать религию и современного человека, это предопределяет «основание новой религии, соответствующей развитию человечества 3, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, <…> дающей блаженство на земле». Эту программную дневниковую запись от 4 марта 1855 г. он завершает словами: «Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня» [Толстой; т. 47: 37, 38].
Толстой прокладывал свой путь к сакральному тексту; в его духовный опыт входило многолетнее и глубокое чтение Библии, при этом Ветхий Завет не был ему интересен. По мнению писателя, относящемуся к началу 1880-х гг., не всякое слово в Новом Завете истинно, и поэтому Церковь должна «отказаться от некоторых книг. Таковы — вполне Апокалипсис и отчасти Деяния Апостолов» [Толстой; т. 24: 17]. В Новом Завете писатель, как известно, выделил четыре Евангелия, а из них как важнейший текст — Нагорную проповедь (см. об этом: [Толстой; т. 66: 66–68]). Е. Г. Новикова справедливо утверждает: «Принципиальный отказ Толстого от акта воскресения Иисуса Христа обусловил его восприятие Евангелия как "великих правил" нравственности, которые могут стать опорой для нравственного воскресения человека; ключевая роль в этом принадлежит Нагорной проповеди» [Новикова, 2020: 62].
Именно и только в евангельских книгах нужно, по убеждению Толстого, «отыскивать самые главные основы учения, не сообразуясь ни с каким учением других книг» [Толстой; т. 24: 17]. Толстой находит в Евангелии понятное ему, то, что ложится на уже имеющийся у него жизненный опыт и отвечает его разуму. Его чтение отличается неприятием религиозной мистики и обусловлено поиском ответов на исходные вопросы «что такое я, что такое Бог», а также «единой основы всего откровения» [Толстой; т. 24: 17].
Толстой создал фундаментальный для его дальнейшего творчества труд, названный «Соединение и перевод четырех Евангелий». Он шел к познанию истины аналитическим путем (выборка и систематизация), а его работа на пути приближения к архаическому тексту имела филологический характер (читал по-гречески, переводил с опорой на «лексиконы», учитывал опыт существующих переводов [Толстой; т. 24: 18]).
Обратимся к размышлениям религиозного философа С. Н. Булгакова о существенном расхождении «в отношении к Слову Божию со стороны науки и веры»: одной присущ « метод неверия », а второй — « метод благоговения ». «Слова и письмена, начертанные на человеческом языке», являются для любого исследователя лишь «литературно-историческим памятником». Верующее же сознание обращено к их божественному содержанию: «Слова эти преложены Духом Святым в Слово Божие, они имеют религиозно-символическую природу, т. е. им присуща религиозная реальность». Евангелие имеет «литургическое, богослужебное употребление: оно читается в храме или же в уединенной молитвенной тиши как Слово Божие» [Булгаков: 97].
Ни тот, ни другой метод не характеризуют толстовское чтение. В целом у Толстого выработался индивидуальный, морально-нравственный подход к сакральному тексту.
Поздний Толстой был внимателен как к традиционному, так и к новому типам религиозности и к разным формам ее проявления — в частности, его живой интерес вызывали многочисленные факты чтения и толкований Библии современниками. Всё это предопределило изображение сцен чтения сакраль ных текстов в его поздних художественных произведениях4.
В круг чтения толстовских героев входят разные книги Нового Завета. Вместе с тем писатель отдает предпочтение ситуациям, когда изначально связь человека с Богом была либо ослаблена, либо прервана. Восстановлению этой связи, как убежден Толстой, способствует чтение Евангелия.
Пристальное внимание к акту чтения сакрального текста в качестве предмета изображения5 появилось у Толстого-писателя, по всей видимости, в 1885 г. после ознакомления с анонимным рассказом «Дядя Мартын». Этот русский текст был переделкой французского рассказа «Отец Мартин» (“Le pére Martin”, 1882), авторство которого принадлежало пастору, протестанту-евангелисту Рубену Сайленсу. Толстой, не знавший про это, доработал русский анонимный текст-переделку, в результате чего появился назидательный рассказ «Где любовь, там и Бог», адресованный читателю из народа и опубликованный в 1886 г. в издательстве «Посредник»6.
Евангельское слово в этом толстовском рассказе либо обширно и точно цитируется, либо пересказывается близко к тексту. Русский анонимный текст-переделка и стоящий за ним французский текст предопределили освещение Толстым истории и процесса чтения Евангелия простолюдином сапожником Мартыном Авдеичем — в переходах от одного этапа к другому, вплоть до созерцания Спасителя в разных образах.
Это единственный случай, когда толстовское изображение чтения как события и процесса может быть соотнесено с теми особенностями традиционного чтения сакрального текста, о которых позднее, через сто с лишним лет, напишет Э. Бьянки. Он охарактеризует чтение сакрального текста глубоко верующим человеком как последовательное, внимательное и усердное, вдумчивое и медленное. Читатель следует по пути приближе ния к высоким смыслам истины, раз за разом «пережевывая»
и «перемалывая» текст. Это особый способ чтения, при котором особую роль обретает память. Читателю, опирающемуся на нее, необходимо «вновь и вновь возвращаться к тексту, находить его главную тему, перебирать слова и запечатлевать их глубоко в сердце» [Бьянки: 36]. Богослов полагает, что «постижение текста существенно зависит от понимания Библии изнутри, от познания Библии через саму Библию…» [Бьянки: 35]. Затем для верующего открываются следующие ступени: медитация, молитва и созерцание Бога [Бьянки: 36, 37, 42].
В рассказе «Где любовь, там и Бог» и повести «Фальшивый купон» (1904) обширно цитируемое авторитетное Слово звучит и воздействует на героев-чтецов, героев-слушателей напрямую; роль же читающего для других (Марии Семеновны, портного, Ивана Чуева) сведена к минимуму; указаны лишь отдельные особенности восприятия простым мужиком Степаном Пелагеюшкиным сакрального текста (соотнесение с опытом собственной жизни, ориентация на «общий смысл» учения и уход от того, что «не подтверждало его», относилось к собственному «непониманию» [Толстой; т. 36: 38]). В этом произведении Толстой отмечает характер влияния Слова на разных слушателей: портной «прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-Божьему. И в семье его так жить стали» [Толстой; т. 36: 27].
В повести «Фальшивый купон», в отличие от рассказа «Где любовь, там и Бог», событие преображения героя — Степана Пелагеюшкина — под воздействием Евангелия восходит к другим историко-культурным основаниям: оно вписывается в хорошо известную Толстому традицию житийного сюжета7, построенного по модели грех — преступление — преображение. В «кризисных житиях» чудо раскаяния, внезапный «"переворот" совершается силой Божественного вмешательства (хотя и при посредничестве увещевательного слова праведника и примера праведности)» [Гродецкая: 165]. Убедительность события для толстовского читателя поддерживается многовековой житийной традицией. Вместе с тем подчеркнем: художественные решения в изображении сцен чтения в этих двух произведениях в целом отвечают традиционной религиозности.
«Воскресение» — последний роман Толстого, создававшийся в конце XIX столетия и идущий в русле «религиозного кризиса русского общества» [Ореханов: 77, 78]. В нем писатель ставит сущностные вопросы жизни, вглядывается в современного человека, вопрошающего, в чем смысл жизни, и взыскующего обрести Бога8. То же относится и к позднему толстовскому рассказу «Божеское и человеческое».
В финале романа «Воскресение» и в рассказе «Божеское и человеческое» (1906) предстает другой, «личностный», вид чтения сакрального текста, который предопределен возросшей ролью личности читателя и его предыдущим интеллектуальным, психологическим, социальным опытом. В эпизодах и сценах романа описаны публичное чтение вслух или цитирование по памяти, а также чтение в одиночку и про себя, в рассказе же представлена только последняя разновидность (в одиночку и про себя). В эпизодах и сценах чтения участвуют ге рои-читатели, герои-посредники, слушатели9.
В роман «Воскресение» с самого начала введена тема посредника между сакральным словом и слушателями. Чтение Молитвослова обрамляет московскую сцену богослужения в острожной церкви. Дьячок читает «несколько стихов из Деяний Апостолов» так, что его слушателям «ничего нельзя было понять» [Толстой; т. 32: 135]. Романист подчеркивает исключительно формальный характер представленной части богослужения, косвенно распространяя это качество и на читаемую часть из Нового Завета.
Однако в дальнейшем тема посредника усложняется. В петербургском высшем свете слушают проповедника Кизеветера. В финальной части произведения эта тема активизирована в двух сценах: на пароме и в тюрьме. Здесь появляются персонажи, цитирующие новозаветный текст. Во всех случаях акцент поставлен не на самом сакральном слове и его безусловном принятии, а на его интерпретации тем или иным человеком.
В сцене на пароме старик-беспоповец выступает и как посредник между словом Писания и слушателями-попутчиками, и как проповедник. Он то и дело апеллирует к евангельскому тексту, однако каждый раз цитирует его неточно. Беспоповцу важнее всего высказать собственное выстраданное знание о современной жизни, и он наполняет Слово злободневным для себя содержанием.
Факт чтения современным человеком Евангелия высоко оценивался поздним Толстым. Вместе с тем писателя настораживало не только стремление современников толковать сакральный текст на свой лад, но и обосновывать Евангелием свою непримиримую позицию в борьбе с существующим в социуме злом. Все это в целом, по его убеждению, вело к дальнейшему разобщению людей.
В толстовских романах складывается устойчивая ситуация: в жизни главного героя, испытывающего глубокий духовный кризис, происходит судьбоносная встреча (князь Андрей Болконский беседует с Пьером Безуховым на пароме, Пьер общается с Платоном Каратаевым и т. д.). В таком контексте можно было бы с уверенностью предположить, что встреча на пароме со случайным попутчиком сыграет важнейшую роль в истории духовных исканий Нехлюдова, однако ожидаемое толстовским читателем не состоялось10: автор «Воскресения» перенес кульминацию на сцену чтения героем Евангелия наедине с самим собой. Толстой ранее, в 1878 г., отметил в записной книжке:
«С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, только с глаза на глаз начинаются настоящие отношения; только когда никто другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя » [Толстой; т. 48: 187].
В финальной части романа «Воскресение» и в позднем толстовском рассказе «Божеское и человеческое» акцент сделан на уединенном чтении Евангелия, определившем процесс духовного преображения героев, — начало ему положено в финале романа, а продолжение следует в рассказе.
В изображении события и процесса чтения Нехлюдовым и Светлогубом есть общее и отличное. В этих произведениях Евангелие начинают читать те герои, чья связь с Богом ранее была прервана. Толстой-художник концентрирует внимание на факторах, являющихся залогом «встречи» современного неверующего человека с сакральным словом. Сапожник Мартын Авдеич («Где любовь, там и Бог») сразу с доверием относится к новозаветному тексту, живительное Слово воздействует на него и изменяет его жизнь. Иван Чуев («Фальшивый купон») тотчас «принял» высокие истины. Однако у Нехлюдова и Светлогуба, весьма далеких от народной жизни, нет почвы для подобной реакции. Неслучайно к чтению Евангелия каждый из них обращается лишь из прагматического интереса.
Чтение сакрального текста, как и в случае с литературным текстом, предвосхищено ожиданием, заданным жизненным опытом. В рассказе «Божеское и человеческое» о Светлогубе, начавшем чтение, сказано:
«Всё это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что ненужная бессмыслица!» [Толстой; т. 42: 202].
При этом повествователь подчеркнул: до тюремного заключения молодой человек ни разу не читал Евангелие как книгу, т. е. полностью.
Процесс выборочного чтения Евангелия Нехлюдовым включает в себя несколько этапов. К первому этапу относятся начало чтения и отличающая этот процесс динамика переходов от доверия к сакральному тексту — к его скептическому восприятию и наоборот.
Нехлюдов начинает чтение с 1–6-го стихов 18-й главы Евангелия от Матфея, пропуская их через себя. Особенно выделяет 4-й стих («Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном»), вспоминая при этом о ситуациях из собственной жизни, когда «умалял себя» [Толстой; т. 32: 440]. Происходит, как и в случае чтения любого литературного текста (см. об этом: [Изер: 221–222]), активизация читательской памяти, а также идентификация с прочитанным.
Толстой вводит и в роман, и в рассказ тему труднопостигаемых мест сакрального текста для рационально мыслящего человека. В рассказе «Божеское и человеческое» скепсис со стороны молодого человека, читающего первые главы Евангелия от Матфея, нарастает: стихи о родословии Иисуса Христа отнесены к «бессмыслице», одно из искушений Христа, поставленного «на крыле храма» дьяволом (Мф. 4:5–6), иронически низведено до предложения исполнить «гимнастическое упражнение с крыши» [Толстой; т. 42: 202].
Автор каждый раз отмечает, с каким именно фрагментом текста связаны преодоление героями скепсиса и раздражения, восстановление доверия, готовность сделать усилие и включиться в процесс постижения смысла читаемого. Уже на первом этапе чтения Нехлюдов подспудно стал вникать в сакральный текст и в ходе этого мыслительного процесса постепенно перешел от интеллектуального восприятия в область переживаний.
Затем следует второй этап. Изменение в восприятии и понимании Нехлюдовым стихов Евангелия происходит к 33-му стиху:
«Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»11 (Мф. 18:33).
Состоялось событие открытия Истины, внутренние рассуждения героя разом вышли наружу («вдруг вслух вскрикнул»), и давний, многолетний распад на внешнюю жизнь и никогда не затухающую внутреннюю был преодолен.
Нехлюдов понимает, что искомый им ответ лежит в высшей сфере. На ужас, который он сполна узрел в тюрьмах и острогах, есть ответ — «тот самый, который дал Христос Петру»:
«…прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать» [Толстой; т. 32: 442].
И в этот момент Нехлюдову открывается простота в той ее глубине, в какой у человека возникает уверенность в возможности «практического разрешения вопроса» [Толстой; т. 32: 442]. Толстовский герой впервые начинает видеть жизнь современников в новом свете: «общество и порядок» существуют не благодаря наказаниям, а вопреки им, ибо «люди всё-таки жалеют и любят друг друга» [Толстой; т. 32: 443].
Нехлюдов, духовно прозревающий, в процессе чтения Евангелия возвращается к началу текста, а затем — на этом новом, только что обретенном духовном основании — выходит к качественно иному пониманию Нагорной проповеди («он нынче в первый раз увидал в этой проповеди <…> простые, ясные и практически исполнимые заповеди…» [Толстой; т. 32: 443]). В рассказе «Божеское и человеческое» представление этого этапа в чтении почти повторено.
На следующем этапе происходит существенный сдвиг в духовной жизни Нехлюдова. В следовании заповедям-«пра-вилам» Нехлюдову видится «единственный разумный смысл человеческой жизни» [Толстой; т. 32: 444]. Теперь герой, как губка, «впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге» [Толстой; т. 32: 444]. Душа вбирает в себя высшие смыслы, они ей понятны.
По Толстому, происходит возвращение человека к самому себе:
«И всё, что он читал, казалось ему знакомо, казалось, подтверждало, приводило в сознание то, что он знал уже давно, прежде, но не сознавал вполне и не верил» [Толстой; т. 32: 444].
В процессе чтения Евангелия и благодаря этому чтению знание, изначально заключенное в глубинах души Нехлюдова, впервые проступает в сфере его сознательной жизни — и неверие сменяется верой.
Звучит внутренний голос самого героя, подводящий итог в событии чтения Евангелия неточной цитатой из него:
« Ищите Царства Божия и правды Его, а остальное приложится вам » [Толстой; т. 32: 444].
Герой начинает преодолевать сосредоточенность на собственной жизни, ощущая себя частью «мы». Согласно контексту финальной сцены «Воскресения» Нехлюдов обретает просветленную Евангелием веру в возможность изменений в социальной жизни, действенная сила которых заключается в умалении собственной личности, в прощении, милосердии и любви людей друг к другу.
Нехлюдов еще только вступил на религиозный путь, событие выхода героя за пределы собственного я лишь намечено романистом, его восприятие Евангелия «нравственно-центрированное» (выражение Г. Ореханова [Ореханов: 99]). Все это объясняет, почему история чтения Евангелия, намеченная в финальной сцене «Воскресения», будет продолжена в рассказе «Божеское и человеческое». Светлогуб — изначально лишь в силу обстоятельств одиночного заточения, но затем и по собственному желанию — постепенно, день за днем, погружается в медленное и вдумчивое чтение. Теперь он переосмысляет путь жизни людей и начинает верить в возможность самому жить иначе.
Чтение наполняет новым содержанием его жизнь, он восходит к духовному переживанию Евангелия, и это преображает его. На Светлогуба, которого везут на казнь, смотрит из окна тюремной камеры старик-беспоповец (этот персонаж появился здесь из финальной части «Воскресения») — и описание молодого человека глазами этого случайного свидетеля исполнено евангельской образностью. Старик узрел выходящего из тюрьмы «юношу с светлыми очами», в «белой руке» которого было Евангелие, затем увидел, что «колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей <…> выехала за ворота» [Толстой; т. 42: 209]. Главный герой позднего рассказа (в отличие от Нехлюдова) озарен высшим светом, он вступил в жизнь вечную, его жизнь после смерти продолжена в других людях.
Тема чтения сакрального текста тесно связана в толстовских произведениях с темой тюрьмы. Всех героев, цитирующих или читающих сакральный текст (кроме англичанина-миссионера и дьячка), объединяет ситуация кризиса, обусловленная уже свершенным ими прежде преступанием (преступлением) или морально-нравственных обязательств, или того или иного устава, закона Российской империи. Движение героев-читателей (как крестьянина, так и дворянина) к постижению высших смыслов Евангелия предстает как духовное преодоление оков.
Итак, тема чтения сакрального текста становится константной в творчестве позднего Толстого. Эпизоды и сцены чтения в «Воскресении», «Фальшивом купоне», «Божеском и человеческом» соотносятся друг с другом в свете проблемы разрыва между современной жизнью и заповедями Христа. По Толстому, путь к преодолению этого разрыва невозможен без обращения современного человека к Евангелию.
Чтение сакрального текста изображено Толстым как формализованное действие, как событие и как процесс. В первом случае чтение происходит в церкви, во втором — чтецы и слушатели из народа разом и доверительно принимают евангельские истины, в третьем — на первый план выходят относящиеся к господскому классу герои, которые самостоятельно прокладывают свой путь к пониманию.
Чтение как событие опирается на традиционный тип чтения, а чтение как процесс, включающий интерпретацию, предполагает «личностный» вид чтения. Очевидно, что в бóль-шей степени писатель доверяет уединенному постижению сакрального текста (при этом характер интерпретации меняется от скепсиса к принятию) и настороженно относится к посредническому, таящему в себе, по его мнению, опасность дальнейшего разобщения людей, ибо значимость собственной интерпретации остается высокой.
Главное, по Толстому, заключается в понимании евангельского текста. В целом же для него важны как традиционный, так и «личностный» виды чтения. Писатель замечает, что в «личностном» чтении не только появляются новые особенности, но и возрождаются традиционные.
Напомним, протоиерей Георгий Ореханов, имея в виду жизнь и творческое наследие позднего Толстого, критически отнесся к тенденции «нового понимания веры и религиозности». Позиция священника понятна. Если же рассуждать исходя из мирских представлений, то нельзя не согласиться с Н. А. Бердяевым, который указал на парадокс: «Л. Толстому суждено сыграть большую роль в религиозном возрождении России и всего мира», он «заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской, полной лжи и лицемерия жизнью. Он — страшный враг христианства и предтеча христианского возрождения» [Бердяев: 465, 466].
Допустимо сказать, что толстовские герои-читатели Евангелия в чем-то предвосхищают время «бедной веры» ХХ столетия, т. е. «веры в Бога, лишенной признаков конкретного вероисповедания, отвлеченной от исторических, национальных, церковных традиций; веры без храма, догм и обрядов» [Эпштейн: 267]. Однако ограничить этих героев только такой перспективой вряд ли возможно: они еще не имели опыта грядущей широкомасштабной эпохи атеизма.
Чуев и Пелагеюшкин, Нехлюдов и Светлогуб остаются в памяти русской литературы как читающие Евангелие, а старик-беспоповец — как преодолевший (от романа «Воскресение к рассказу «Божеское и человеческое») тяготение к Апокалипсису и направивший свой духовный взор к Евангелию. Каждый из них по-своему меняется, а Чуев, Пелагеюшкин и Светлогуб духовно преображаются.