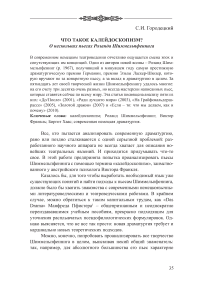Что такое калейдоскопизм? О нескольких пьесах Роланда Шиммельпфеннига
Автор: Городецкий Святослав Игоревич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. История литературы
Статья в выпуске: 2 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
В современном немецком театроведении отчетливо ощущается смена эпох и сопутствующих им концепций. Один из авторов новой волны - Роланд Шиммельпфенниг (р. 1967), получивший в минувшем году самую престижную драматургическую премию Германии, премию Эльзы Ласкер-Шюлер, которую вручают не за конкретную пьесу, а за вклад в драматургию в целом. За пятнадцать лет своей творческой жизни Шиммельпфеннигу удалось многое: на его счету три десятка очень разных, но всегда мастерски написанных пьес, которые ставятся сейчас по всему миру. Эта статья посвящена анализу пяти из них: «До/После» (2001), «Ради лучшего мира» (2003), «На Грайфсвальдершрассе» (2005), «Золотой дракон» (2007) и «Если - то: что мы делаем, как и почему» (2010).
Калейдоскопизм, роланд шиммельпфенниг, виктор франкль, биргит хаас, современная немецкая драматургия
Короткий адрес: https://sciup.org/14914283
IDR: 14914283
Текст научной статьи Что такое калейдоскопизм? О нескольких пьесах Роланда Шиммельпфеннига
Все, кто пытается анализировать современную драматургию, рано или поздно сталкиваются с одной серьезной проблемой: разработанного научного аппарата не всегда хватает для описания новейших театральных явлений. И приходится придумывать что-то свое. В этой работе предпринята попытка проанализировать пьесы Шиммельпфеннига с помощью термина «калейдоскопизм», заимствованного у австрийского психолога Виктора Франкля.
Казалось бы, для того чтобы выработать необходимый язык уже существующих понятий и найти подходы к пьесам Шиммельпфеннига, должно было бы хватить знакомства с современными немецкоязычными литературоведческими и театроведческими работами. В крайнем случае, можно обратиться к таким капитальным трудам, как «Das Drama» Манфреда Пфистера1 – общепризнанным и неоднократно переиздававшимся учебным пособиям, прекрасно подходящим для уточнения расплывчатых псевдофилологических формулировок. Однако выясняется, что не все так просто: новая драматургия требует и кардинально новых теоретических подходов.
Можно, конечно, попробовать проанализировать все творчество Шиммельпфеннига в целом, выискивая некий общий знаменатель: так, например, для абсолютного большинства его пьес характерно смешение мифического или сказочного начала и реальности. Или предпринять детальный анализ отдельных пьес, вычленяя из их часто аморфной структуры те или иные элементы и пытаясь установить между ними логическую связь. В самом существовании этой связи сомневаться не приходится: достаточно вспомнить то интервью с драматургом, где он однозначно заявляет, что каждая его пьеса – текст закрытой формы, что в них не форма определяет содержание, а содержание – форму2. В этом Шиммельпфенниг во многом схож с Брехтом, который в 1926 г. заявлял: «Что касается материала, то его у меня достаточно, чтобы написать хоть сорок допустимых и нужных пьес, которые обеспечили бы текущий репертуар какого-нибудь театра на срок в целое поколение (но я по-прежнему считаю, что форму нельзя определить без театра)»3.
Благодаря анализу отдельных пьес в творчестве Шиммельпфен-нига удается обнаружить много любопытных интертекстуальных связей. Так, например, становится очевидной исключительная важность воды как связующего образа (ср. наиболее известную у нас «Арабскую ночь» или антивоенную «Ради лучшего мира»).
Одним из возможных вариантов классификации всего массива пьес является хронологическое деление. Действительно, в творчестве Шиммельпфеннига можно различить несколько этапов, и его ранние пьесы совсем не похожи на то, что он пишет в последние годы. Но сама по себе такая хронологическая классификация поневоле остается поверхностной – такой же поверхностной, как деление на периоды творчества Шекспира.
Еще пьесы можно разделить по формальным критериям: например, у Шиммельпфеннига есть два женских монолога, есть «социальные» пьесы, где мифического и сказочного почти нет, зато есть много алкоголя и пустопорожних разговоров. Однако и такое деление не может лечь в основу серьезного исследования.
Своеобразным откровением для многих исследователей современного немецкого театра стала вышедшая в 2007 г. книга Биргит Хаас «Апология драматической драмы», где Шиммельпфенни-гу посвящена одна из глав. Разбирая две пьесы Шиммельпфенни-га («Арабскую ночь» и «На Грайфсвальдерштрассе»), Хаас делает много интересных наблюдений. Например, она, как и сам Шиммель-пфенниг, опровергает закрепившееся за ним реноме магического реалиста, убедительно доказывая, что если магическому реализму Рушди или Варгаса Льосы свойственно превращать реальность в магию, то Шиммельпфенниг, наоборот, делает магию реальной. В этом Хаас видит сходство с творческим методом Сальвадора Дали, который «писал свои сюрреалистические констелляции в реалистической манере» 4.
Попытка немецкого театроведа провести параллель между современной драматургией и живописью прошлого столетия весьма любопытна, но не совсем точна: обратив внимание на ранние работы Пикассо и Жоржа Брака, следует признать, что их творчество гораздо ближе к драматургии Шиммельпфеннига, чем сюрреализм Дали.
Достаточно хотя бы вкратце познакомиться с научными работами, посвященными кубизму, чтобы удостовериться в справедливости этого суждения. Можно отыскать более десятка поразительных сходств между пьесами Шиммельпфеннига и ранними работами Пикассо и Брака. Особенно любопытны размышления о перспективе на картинах кубистов, а также о раздробленности формы, используемой для намеренного затруднения восприятия.
Термин «калейдоскопизм», впервые употребленный Виктором Франклем в статье «Потенциализм и калейдоскопизм»5, прекрасно подходит для описания того динамичного, театрального кубизма, который просматривается в драматургии Шиммельпфеннига. А само слово «калейдоскоп», означающее в переводе с греческого «видение красивых образов», – для описания этого нового театрального явления: ведь калейдоскоп подразумевает движение – ту динамику, что отличает театр от живописи.
Стоит особенно отметить, что термин «калейдоскопизм» заимствован у Франкля полностью – под калейдоскопизмом подразумеваются не только те чисто художественные и театральные аспекты, которые будут разбираться ниже, но и философская концепция того совмещения объективного и субъективного, которое Франкль называет калейдоскопизмом.
Итак, что же такое калейдоскопизм применительно к драматургии?
Во-первых, в любой калейдоскопической пьесе всегда есть несколько сюжетных линий, не связанных напрямую . Так, в «До/ После» вниманию зрителя представляется пятьдесят одна маленькая сценка, почти все герои которых существуют в параллельных мирах. Сюжетные линии калейдоскопической пьесы, как частички в калейдоскопе – сосуществуют в замкнутой форме этой пьесы, то попадая, то вновь уходя из поля нашего зрения, но пересекаются (сталкиваются) лишь изредка.
Эти столкновения и заставляют говорить об отсутствии прямых связей. Минимальные, косвенные связи все-таки существуют: так в «До/После» русская пара мерзнет из-за того, что сломалась батарея, а потом мы видим рабочих, которые чинят батарею. Утверждать, что это та самая батарея, мы не можем, но и говорить о полной параллельности развития сюжетных линий в данном случае нельзя.
Во-вторых, для калейдоскопической пьесы характерно повторение структурных элементов – от отдельных слов и фраз до целых фрагментов , и у нее всегда кольцевая композиция , которая как круг, замыкающий в себе частички калейдоскопа, обрамляет пьесу. Так, например, в «До/После» сюжетная линия Женщины лет тридцати развивается постепенно, и ее реплика «я… я никогда еще не делала ничего такого. Я имею в виду с тех пор, как мы с ним вместе, а мы уже давно вместе, одиннадцать лет, я никогда не делала ничего такого»6 дословно повторяется во втором и седьмом фрагментах; однако если во втором фрагменте произнесению фразы предшествует краткая биография женщины, то в седьмом – краткая биография мужчины, с которым она изменяет мужу, поэтому мы воспринимаем одни и те же слова несколько иначе. Что же касается кольцевой композиции, то например, вся пьеса «До/После» начинается и заканчивается почти идентичными монологами Женщины за семьдесят . Впрочем, кольцевая композиция необязательно подразумевает одного и того же героя в начале и конце пьесы: закольцованность может быть и смысловой. Так, пьеса «Ради лучшего мира» начинается с монолога мальчика, играющего в войну под душем, а заканчивается монологом солдатки, идущей по джунглям под проливным дождем.
В-третьих, для калейдоскопических пьес характерно постоянное смещение перспективы . Хаас пишет о пьесе «На Грайфсвальдер-штрассе»: «Постоянное смещение перспективы препятствует отождествлению с каким-либо героем, поскольку каждый герой попеременно является то субъектом, то объектом восприятия: и он воспринимает, и его воспринимают. В этом отношении пьеса удовлетворяет брехтовскому требованию преобразования фабулы, кусочков пьесы [по-немецки «Stückchen im Stück»], которые “бережно составляются друг с другом”. При этом целостность, отражающаяся в этом разбитом на части мире, одновременно сохраняется и разрушается»7.
Приведем пример. Во фрагменте 2.13 пьесы «На Грайфсвальдер-штрассе» владелица фотомагазина Бабси фотографирует происходящее на улице. В частности, она запечатлевает, как Рудольф выбегает из своей овощной лавки вслед за высокой девушкой, догоняет ее и становится перед ней на колени. Что он говорит ей, Бабси не слышит, мы же узнаем об этом из следующей сценки, где перспектива меняется и мы слышим любовное признание Рудольфа.
Исходя из этого примера, мы можем говорить не только о том, что герои (в данном случае – Рудольф) попеременно являются субъектами и объектами восприятия, но и о том, что объективное восприятие (показанное через объектив фотоаппарата Бабси) сменяется субъективным восприятием (проявленным в монологе Рудольфа). А поскольку подобная субъективация объективного характерна для всех калейдоскопических пьес, то мы можем считать ее четвертым необходимым критерием, непосредственно связанным с тем определением калейдоско-пизма, которое мы находим у Франкля. Франкль писал: «По нашему мнению, проект мира в действительности является не субъективным проектом субъективного мира, а фрагментом, хоть и субъективным, но фрагментом объективного мира»8. По сути, из таких субъективных фрагментов объективного и состоят калейдоскопические пьесы Шиммельпфеннига. (К тому же, по-немецки маленькие сценки или явления, эти «Stückchen im Stück», даже называются фрагментами.)
Стоит также отметить, что присущая калейдоскопизму субъек-тивация объективного – явление, прямо противоположное той объективации субъективного, «объективности, вытесняющей “субъект”», которую А.В. Михайлов находит у реалистов конца XIX в9. Тем самым, можно констатировать абсолютную смену перспектив в авангарде европейского искусства – более того, именно среди авторов реалистического направления, – произошедшую чуть более чем за одно столетие.
Пятым и шестым критериями калейдоскопичекой пьесы служат вышеупомянутые раздробленность формы и намеренное затруднение восприятия . Оба этих критерия присутствуют в почти идентичных монологах Женщины за семьдесят, которыми начинается и заканчивается «До/После». Первый из них звучит так:
«Ж е н щ и н а з а с е м ь д е с я т . Сегодня, переодеваясь, я случайно увидела себя голой. Отвратительно. Как губка. В таких отелях я, как правило, никогда не включаю свет в ванной. Все делаю в темноте, даже душ принимаю в темноте, чтобы себя не видеть. А после, при свете дня, подкрашиваю губы, глядясь в маленькое карманное зеркальце».
А второй так:
«Ж е н щ и н а з а с е м ь д е с я т . Сегодня, переодеваясь, я случайно увидела себя голой. Отвратительно. Как губка. В таких отелях я, как правило, никогда не включаю свет в ванной. Все делаю в темноте, даже душ принимаю в темноте, чтобы себя не видеть. Я делаю все это, чтобы не видеть себя».
Различаются монологи только последними предложениями, но именно они и задают два критерия. В первом упоминается «маленькое карманное зеркальце» (т.е. раздробленность формы, ведь в такое зеркальце человек не может увидеть себя целиком), во втором сама женщина говорит: «Я делаю все это, чтобы не видеть себя» (намеренное затруднение восприятия). Вскользь заметим, что оба эти критерия отличают и работы кубистов, и впервые были выработаны ими.
Седьмым критерием калейдоскопической пьесы является редукция , отказ от ненужных деталей. Так, в одном из интервью Шиммельпфенниг утверждает: «Меня интересует редукция, уплотнение [Verdichtung] – или отбрасывание, опускание определенной информации и деталей. Редукция позволяет зрителю самостоятельно составлять, распознавать, обдумывать те или иные части»10. Без редукции калейдоскопические пьесы не могли бы оставаться столь же динамичными, однако редукция вовсе не означает полного отказа от деталей. Напротив, простые детали приобретают в пьесах Шиммельпфеннига особую важность. В том же интервью драматург признается: «Ложка в “На Грайфсвальдерштрассе” – та деталь, о которой меня часто спрашивают. Светящаяся мышь в “Конце и начале” или слишком узкая рубашка в “Визите к отцу”: детали сами говорят за себя, представляют собой всю историю целиком. По-другому невозможно рассказывать истории» 11.
Сходные мысли высказывал и Брехт, когда заявлял: «Известная заменяемость событий и обстоятельств должна позволить зрителю осуществить монтаж, экспериментирование и абстрагирование и даже поставить перед ним такую задачу»12.
Мы перечислили семь основных критериев, которые характерны для всех калейдоскопических пьес Шиммельпфеннига. Однако у отдельных пьес есть еще весьма любопытные отличительные особенности, которые непосредственно связаны с калейдоскопизмом.
Таково, например, распределение ролей в пьесе «Золотой дракон», благодаря которому достигается своеобразный актерский ка-лейдоскопизм : мужчины здесь играют женщин, женщины – мужчин,
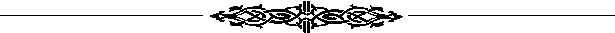
старики – молодых, молодые – стариков, и у каждого из актеров по нескольку ролей.
Случайность, характерная для движения частиц в калейдоскопе, характерна и для сменяющих друг друга фрагментов калейдоскопических пьес. В некоторых из них даже нельзя однозначно определить, к какой сюжетной линии относится тот или иной фрагмент . Например, шестой фрагмент в «До/После» вполне мог бы быть продолжением четвертого: и там, и там перед нами мужчина и женщина одинаковой комплекции. Ремарка в четвертом фрагменте звучит так: «Оба в теле, она полнее его». А в шестом так: «Он тяжелый человек, не толстый, но плотный. <…> Она такая же, как он, плотная, но не толстая». При этом в четвертом фрагменте герои – приезжие из России, а в шестом – просто мужчина и женщина.
Во всех калейдоскопических пьесах есть также смысловые отсылки к циклической структуре произведения – как правило, это художественные образы, связанные с круговым движением, кругами, шарами и т.д.
Теперь рассмотрим более подробно пять калейдоскопических пьес Шиммельпфеннига: «До/После» (2001), «Ради лучшего мира» (2003), «На Грайфсвальдершрассе» (2005), «Золотой дракон» (2007) и «Если – то: что мы делаем, как и почему» (2010).
«До/После» («Vorher/Nachher»)
Не так давно немецкий театровед Петер Михальчик назвал пьесу «До/После» «самой сложной пьесой Шиммельпфеннига»13. Действительно при первом прочтении этой пьесы многое остается непонятным. Давайте попробуем разобраться во всех ее хитросплетениях, исходя из того что она калейдоскопическая. Надеюсь, многое сразу прояснится.
Для начала вычленим отдельные сюжетные линии. Членение это, как уже было сказано выше, вынужденно субъективно, поскольку не всегда можно однозначно отнести фрагмент к той или иной сюжетной линии.
-
1. Семидесятилетняя женщина (1, 51)
-
2. Мужчина под лампочкой и его жена (2, 50)
-
3. Женщина лет тридцати, Ее друг, Мужчина из другого города, Рыжеволосая женщина (3, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 49)
-
4. Женщина и мужчина из России (4, 46)
-
5. Мужчина с лупой (5)
-
6. Женщина в неглиже и мужчина на краю кровати (6)
-
7. Два танцора (8)
-
8. Женщина с газетой, Сверчок (9, 29, 38, 42)
-
9. Рабочие (11, 47)
-
10. Три монахини (13)
-
11. Постоянно меняющаяся женщина (14)
-
12. Женщина и мужчина под пятьдесят в баре (16)
-
13. Мужчина с картой звездного неба (18)
-
14. Мужчина в картине, его жена, полицейские (19, 22, 27, 34)
-
15. Сюзанна и Филипп (23, 28, 32)
-
16. Организм и охотник (24, 36, 42)
-
17. Изабель и Георг (25, 30, 37, 39, 45)
-
18. Мужчина с рукописью (31)
-
19. Мужчина с запонками (33, 40, 44)
-
20. Ждущий мужчина (35, 41)
-
21. Худой мужчина (48).
Итак, в «До/После» можно выделить два десятка сюжетных линий, герои которых напрямую не пересекаются. Возможно, именно это и заставило Михальчика назвать «До/После» самой сложной пьесой Шиммельпфеннига. Впрочем, восприятие такого количества параллельно развивающихся сюжетных линий облегчается большим количеством повторов структурных элементов пьесы. Так, например, разные фрагменты связываются едиными формулами: в пятом фрагменте Мужчина с лупой рассказывает о том, как «из ничего» появляется жучок, который прежде обитал только в Австралии, в шестнадцатом фрагменте Мужчина и Женщина в баре обсуждают, как «из ничего» появилась любовная связь Рыжеволосой женщины и мужчины, преданного Женщиной лет тридцати, а в двадцать четвертом фрагменте «из ничего» появляется инопланетный Организм. В качестве примера повторения более крупных структурных элементов пьесы можно привести отрывки из семнадцатого и двадцатого фрагментов, где описывается одно и то же событие. В семнадцатом фрагменте читаем: «Она отпивает глоток шампанского из бутылки, которую они купили по дороге на заправке, и отставляет бутылку в сторону. Поворачивается к нему, он тянется к ней. Они страстно целуются. Не прекращая целоваться, он запускает руки ей под майку, она вытягивает его рубашку из штанов. Каждый, как умеет, раздевает другого». В двадцатом фрагменте: «Я отхлебываю еще глоток шампанского, которое мы купили по пути, на заправке, даю бутылку ему, выпиваю еще немножко, тем временем мы продолжаем тискаться, раздевая друг друга». А о кольцевой композиции «До/После» уже упоминалось: монологи Женщины за семь- десят, обрамляющие пьесу – пример почти полного повторения целого фрагмента. (В более поздней пьесе «Золотой дракон» встречается и дословный повтор фрагмента.)
Приведенные отрывки из семнадцатого и двадцатого фрагментов, к тому же, служат примером и смещения перспективы, и субъекти-вации объективного: ведь в семнадцатом фрагменте перед нами объективный взгляд автора, а в двадцатом – субъективный взгляд героини.
Раздробленность формы у пьесы, состоящей из пятидесяти одного фрагмента, очевидна. А поскольку мы не можем однозначно определить принадлежность нескольких фрагментов, то налицо и намеренное затруднение восприятия.
Большинство героев не имеет собственных имен. Шиммель-пфенниг пишет просто: Мужчина под лампочкой , Мужчина из другого города , Мужчина с лупой , Рыжеволосая женщина и т.д. Каждый герой наделен одной главной деталью или чертой, в остальном важен только биологический пол. Таким образом, достигается высокая степень редукции, которая как раз и «позволяет зрителю самостоятельно составлять, распознавать, обдумывать те или иные части».
Кроме этого, с точки зрения калейдоскопизма «До/После» интересна и тем, что здесь – в первой калейдоскопической пьесе – мы находим его зрительный образ: в сорок восьмом фрагменте Худой мужчина обходит комнату по кругу, причем не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, для чего ему приходится забираться на стены и потолок:
«Худой мужчина стоит посередине комнаты, уставясь на стену напротив. Подходит к стене, задумывается. Потом осторожно ставит левую ногу на вертикальную стену.
В таком состоянии он пребывает некоторое время. Убирает ногу, стоит. Поднимает правую ногу, ставит на стену. Довольно долго остается в таком положении. После чего ставит на стену и левую ногу. Теперь он стоит в комнате горизонтально. Шаг за шагом поднимается по стене, мимо маленьких прикроватных лампочек, вдоль ведущей наверх трубы отопления, метр за метром, пока почти не упирается в потолок.
Если мужчина чуть-чуть нагнется вперед, он сможет дотронуться до потолка. Тогда он ставит на потолок одну ногу, а затем, после недолгого раздумья, и вторую. Теперь мужчина идет по потолку вниз головой, как по полу. Он бесконечно наслаждается своим триумфом, но сохраняет осторожность и тщательность научного экспериментатора. Пройдя по потолку, он достигает противоположной стены и затем, лицом вниз, спускается по ней. У картины, висящей на стене, он делает маленький крюк. И вот он опять спустился на пол и стоит ровно на том месте, с которого начал свою прогулку по комнате».
Кроме этого явного образа, в пьесе еще есть множество упоминаний о всевозможных циклах и кругах. Так, например, в пятом фрагменте Мужчина с лупой говорит о неком жучке, который «возвращается каждый год в конце июля». Восьмой фрагмент, посвященный двум танцорам, которым осталось лишь вернуться домой из гастрольного турне, т.е. замкнуть круг своих путешествий, заканчивается так: «Торшер в углу комнаты очертил круг света на потолке». Преданный подругой молодой человек в двенадцатом фрагменте по очереди просматривает все имеющиеся каналы, после чего выключает телевизор – еще один вариант замкнутого кругового движения, так называемое листание, или зеппинг (zapping)14. Постоянно меняющаяся женщина совершает полный круг превращений в рамках одного фрагмента: она начинает и заканчивает свой день, когда ее рост составляет «примерно метр семьдесят два». В пятнадцатом фрагменте недавно познакомившаяся пара играет в пинбол – игру, в которой шарики движутся вверх и вниз, после чего возвращаются в исходную позицию. Ждущий мужчина из тридцать пятого фрагмента ждет свою подругу или жену семьдесят минут, то есть чуть больше часа. И при этом он постоянно смотрит на часы. «Ich drehe durch»15, – признается он. В сорок втором фрагменте инопланетный Организм начинает вращаться вокруг себя, пытаясь исторгнуть из себя подкараулившего его Охотника . Пожилая женщина по прозвищу Сверчок с годами возвращается в одни и те же места: через восемь лет она оказывается в той же кондитерской, через сорок – снова в Мексике. Ее последний монолог заканчивается фразой: «Как будто за все это время ничего не изменилось».
Циклическая структура пьесы обыгрывается и в тринадцатом фрагменте, где структура молитвы трех монахинь проясняется «исподволь, по мере повторов».
Еще одну весьма любопытную смысловую отсылку к структуре пьесы находим в двадцать восьмом фрагменте, где Филипп упрекает Сюзанну в том, что, начав болтать, она не в состоянии остановиться. Другой упрек Филиппа заключается в том, что Сюзанна постоянно рассказывает одни и те же истории. Напомню, что такие упреки звучат в пьесе, которая заканчивается повтором. В этой связи нельзя не вспомнить реплику другой героини Шиммельпфеннига – Ильзы из более поздней пьесы «Здесь и сейчас»: «В этом-то и есть вся прелесть! Для этого и существуют истории – чтобы их снова и снова рассказы- вали и чтобы их снова и снова слушали». Шиммельпфенниг, похоже, склоняется к точке зрения Ильзы – недаром его творчество изобилует разнообразными повторами и заимствованиями.
Параллельное развитие сюжетных линий также находит смысловое обоснование. В пьесе все время говорится о разных людях и о разных мирах, в которых они живут. Инопланетный Организм и Охотник – научно-фантастическая вариация на ту же тему, Человек в картине и окружающие его люди доиндустриальной эпохи – тоже вариация, только здесь человек путешествует в прошлое. Пожилая женщина (Сверчок) и ее молодой начальник – еще один вариант параллельного существования. «С этим человеком у меня нет и не может быть ничего общего, он мне чужд, и я для него такая же чужая. В моих глазах он всего лишь хам и невежа, а я в его глазах занудливая, неповоротливая старая карга», – признается Сверчок.
В уже упоминавшейся пьесе «Здесь и сейчас» есть еще один фрагмент, перекликающийся с «До/После»: одиннадцатилетний мальчик рисует на трамвайной остановке четырехугольник, который пересекают две «более-менее параллельные» линии, а позже один из героев пьесы, Мартин, объявляет, что этот рисунок – «разгадка всего», «ключ к пониманию любой соразмерности и несоразмерности, суть бытия мужчины и женщины, красоты и тления, любви, отчаяния, легкомыслия, непостоянства, разочарования, предательства, гнева, скорби и недолговечности, жизни и смерти». Мартин воодушевленно рисует в воздухе четырехугольник с параллельными линиями, но его никто не понимает.
«Ради лучшего мира» («Für eine bessere Welt»)
В этой пьесе не так много персонажей и сюжетных линий, как в «До/После», однако структура ее не менее запутана. Начать хотя бы с того, что в «Ради лучшего мира» нет списка действующих лиц. Вместо этого Шиммельпфенниг просто пишет: «Около четырех или пяти женщин, четырех или пяти мужчин. Мальчик»16. Если в «До/ После» Шиммельпфенниг давал в руки своим героям некоторую отличительную деталь – лупу, карту звездного неба или рукопись, – то в этой пьесе таких деталей нет. Редукция выходит на новый уровень, и читательская догадливость должна ему соответствовать.
В этой пьесе нет также авторского деления на фрагменты, поэтому раздробленность формы и намеренное затруднение восприятия сразу бросаются в глаза любому читателю. Для того чтобы лучше ори- ентироваться в пьесе, мы сами разобьем ее на фрагменты. Их будет почти столько же, сколько в «До/После»: пятьдесят.
-
1. Монолог мальчика.
-
2. Монолог мужчины после сна.
-
3. Немое действие: солдат или солдатка чистит оружие.
-
4. «Ландауэр хоф». Монолог Рэйчел о баре.
-
5. Монолог Деборы (женщины, рекламирующей кофейный напиток) и ее диалог с фотографом.
-
6. Немое действие: солдат переодевается в килт.
-
7. Елена съезжает с квартиры, пытается позвонить брату Михе.
-
8. Монолог солдата/солдатки.
-
9. Фотоувеличение со спутника.
-
10. Монолог солдата/солдатки. Диалог Рэйчел и Михи.
-
11. Четыре правила.
-
12. Разговор командного состава.
-
13. Монолог Елены. Семейный ритуал.
-
14. Высокая брюнетка на восточном берегу озера.
-
15. Монолог солдата об униформе и сексе с женщинами, которые выше по званию.
-
16. О СМИ.
-
17. Диалог врача и человека, который разучился читать связный текст.
-
18. Об исчезновении стекла.
-
19. О нехватке довольствия.
-
20. Монолог солдата/солдатки о делении на группировки.
-
21. О женщине в розовом.
-
22. Монолог солдата/солдатки. Джабджаб зазывает солдата в душ.
-
23. Монолог солдата/солдатки о ящиках с килтами.
-
24. Монолог солдата/солдатки о войне и инопланетянах.
-
25. Диалог солдата Виня и офицера.
-
26. Диалог и секс с инопланетянкой.
-
27. Монолог о другом мире, об умирающей цивилизации.
-
28. Диалог Виня и офицера.
-
29. Мужчина, спускающийся по лестнице.
-
30. Монолог Джабджаб с повторением диалога Джабджаб и солдата.
-
31. О некой планете и стеклоедах.
-
32. Монолог солдата/солдатки о кофеине.
-
33. О пространстве, которое «не может существовать».
-
34. Список фамилий.
-
35. Монолог Спифф.
-
36. Диалог солдат о Венере и Психее.
-
37. Цвета килтов у подразделений.
-
38. Диалог Виня и офицера.
-
39. Диалог Персефоны и Психеи.
-
40. Диалог Виня и Старшего по званию.
-
41. Описание африканского бара. Танец Даны. Маска бармена.
-
42. Винь о «Черной страже».
-
43. О Рэйчел и Елене.
-
44. Самоубийство Елены.
-
45. Монолог солдата о девушках и горках в бассейне «Михаэли».
-
46. О ритуале Дня прибытия.
-
47. Диалог Деборы и офицера «Ямайки-8».
-
48. Монолог Психеи.
-
49. Монолог Деборы (Джабджаб) и диалог врачей.
-
50. Монолог солдатки.
Теперь постараемся выделить сюжетные линии. Наш выбор, как и в анализе «До/После», по необходимости субъективен. Поскольку же бóльшую часть пьесы повествование ведется от лица безымянных героев или о них, то список сюжетных линий получается предельно кратким:
-
1. Мальчик под душем и солдатка под дождем (1, 50)
-
2. Мужчина после сна, женщина с рекламы, майор «Ямайки-8», Дебора (Джабджаб), Психея (2, 5, 22, 30, 36, 39, 47, 48, 49)
-
3. Рэйчел (4, 10, 43)
-
4. Елена (7, 13, 43, 44)
-
5. Миха (10, 13, 45)
-
6. Винь, командный состав и подразделение «Дельта-0»; мужчина, спускающийся по лестнице (12, 25, 28, 29, 35, 38, 40, 42)
-
7. Спифф (15, 35)
-
8. Дана (41).
Как видно, сюда входят далеко не все фрагменты. Тем не менее, даже из такого субъективного разделения ясно, что в пьесе есть несколько напрямую не связанных сюжетных линий.
Что касается повторения структурных элементов пьесы, то можно привести в качестве примера выражение «keine Chance haben» («не иметь шансов»), которое повторяется пять раз на протяжении пьесы или, если говорить о более крупных элементах, диалог между Джабджаб и солдатом, дословно повторяющийся в двадцать втором и тридцатом фрагментах. О кольцевой композиции этой пьесы мы уже упоминали.
Пример смещения перспективы и субъективации объективного находим уже в четвертом фрагменте пьесы, в первой половине которого повествование ведется от лица Рэйчел, а во второй – от лица автора. Другим примером субъективации может служить стакан воды, который сперва появляется в фокусе спутника (9-й фрагмент), а потом исчезает в монологе Елены (13-й фрагмент).
Что касается смысловых отсылок к структуре пьесы, то их в «Ради лучшего мира» тоже предостаточно. Не единожды описываются в пьесе некие регулярные действия. Например, четырнадцатый фрагмент начинается так: «Каждый день, каждое утро повторяется одно и то же…» В тридцать первом фрагменте говорится о круговороте, который происходит на планете, источающей стекло: его поедают сте-клоеды, а их в свою очередь поглощает планета. Ритуал Дня прибытия, подробно описанный в конце пьесы, также повторяется из года в год.
Движение частиц в калейдоскопе и актерский калейдоскопизм, который явно прослеживается не только в «Золотом драконе», но и в этой пьесе, напоминает следующий отрывок из описания ритуала Дня прибытия: «Группы мужчин и женщин снова смешиваются и образуют новые маленькие группы, разыгрывающие историю войны».
«На Грайфсвальдерштрассе» («Auf der Greifswalder Straße»)
Третья калейдоскопическая пьеса Шиммельпфеннига по своей структуре больше напоминает «До/После», чем «Ради лучшего мира». Она состоит из шестидесяти трех фрагментов, которые – опять-таки субъективно – можно разбить на сюжетные линии следующим образом:
-
1. Мужчина без собаки и его жена (1.1, 1.7, 2.6, 3.5, 4.20)
-
2. Рудольф, Таня, Натали, Слишком худая женщина, Кики (1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 2.14, 3.4, 3.11, 3.12, 4.5, 4.9, 4.14, 4.15, 4.17)
-
3. Рокер с пакетом (1.3, 4.14, 4.19)
-
4. Рабочие (1.5, 4.12)
-
5. Катя (1.8, 1.10, 3.2, 3.3, 3.7, 3.13, 4.14, 4.16)
-
6. Симона (1.8, 1.10, 3.3, 3.9, 3.11, 3.16, 4.4, 4.7, 4.14)
-
7. Майка (1.8, 1.10, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 2.17, 3.9, 3.11, 3.15, 4.3, 4.8, 4.11, 4.13, 4.17)
-
8. Семилетняя девочка в метро (2.1)
-
9. Кассирша Билла (2.2, 2.4, 2.17, 4.13, 4.14)
-
10. Ханс и его жена (2.3, 2.10, 3.1, 4.1, 4.10, 4.18)
-
11. Строители (2.8, 3.2)
-
12. Мужчина у телефона (отец Бабси) (2.12, 2.13)
-
13. Бабси (2.13, 3.12, 4.14)
-
14. Женщина с вилкой (2.15)
-
15. Мужчина на балконе (2.16)
-
16. Пассажиры в трамвае (2.17)
-
17. Фридрих (3.2, 3.7, 3.13, 4.14, 4.16)
-
18. Сотрудники Института химической информации (3.6, 4.14)
-
19. Михаил Кириллович (3.8)
-
20. Трое румын (3.10, 3.14, 4.6)
-
21. Человек с повозкой (4.2, 4.4, 4.7)
-
22. Молодой человек в очках (4.3, 4.8)
-
23. Хозяин пивной «Катски» (4.4, 4.7).
Как видно из приведенного списка, некоторые сюжетные линии этой пьесы пересекаются, и все же, несомненно, можно выделить и несколько сюжетных линий, не связанных напрямую. Так, например, сюжетные линии Ханса и его жены, рабочих, румын и т.д. развиваются без прямой связи. Косвенно же всех их связывает Грайфсвальдерштрассе – та улица, на которой разворачивается действие пьесы.
Как и в других калейдоскопических пьесах, в «На Грайфсвальдер-штрассе» повторяются структурные элементы: например, Ханс сначала исполняет свои песенки на итальянском и испанском, а потом повторяет их в переводе на немецкий, а заблудившийся в ночи рокер в разных фрагментах твердит одно и то же слово «maiden».
Кольцевая композиция этой пьесы очевидна: она начинается и заканчивается безрезультатными поисками пропавшей собаки, которая по ходу действия превращается в волка, кусает Симону, перевоплощается в нее и умирает в ее обличье.
Постоянное смещение перспективы в этой пьесе отмечала еще Биргит Хаас, о чем мы говорили выше. Так, например, в соседствующих фрагментах 4.2, 4.3 и 4.4 перспектива меняется дважды: сначала Человек с повозкой , видя Симону, думает, что ее укусила собака или волк (4.2), потом Майка говорит Молодому человеку в очках , что ее подругу укусила собака (4.3), и, наконец, сама Симона превращается в волка (4.4).
О субъективации объективного в этой пьесе мы тоже упоминали, приводя в качестве примера фрагменты 2.13 и 2.14.
Раздробленность формы очевидна. Что же касается намеренного затруднения восприятия, то к нему можно отнести введение таких коротеньких фрагментов, как 2.15 и 2.16: в первом перед нами женщина, застывшая над тарелкой спагетти с вилкой в руках, во втором – мужчина, поливающий цветы и обозревающий улицу с балкона. А во фрагменте 2.1 появляется и вовсе семилетняя девочка, поющая в метро песенку на португальском языке, – текст этой песни зрителям так и не переводят.
Характерна для этой пьесы и редукция. Иногда Шиммельпфенниг характеризует персонажа с помощью возраста и комплекции, иногда – нет. Многое оставляется недосказанным, неуточненным. Например, Мужчина у телефона – вероятно, отец Бабси – вспоминает о своих друзьях Свенье, Нико и Утто, по которым он соскучился. Однако кто эти люди и почему их не хватает персонажу, мы так и не узнаем. Знаем лишь, что вместе со Свеньей и Нико он прошлым летом «много сделал», но что именно сделал, Шиммельпфенниг не уточняет.
Как и в двух уже рассмотренных нами пьесах, в «На Грайфсваль-дерштрассе» есть смысловые отсылки к структуре пьесы. Если в «До/ После» герои играли в пинбол, то здесь во фрагменте 4.2 упоминается бильярд. Непредсказуемость движения бильярдных шаров – яркий образ хаотичности человеческой жизни еще со времен Юма, – похожая на непредсказуемость движения частиц в калейдоскопе, служит очередной смысловой отсылкой к раздробленной структуре калейдоскопических пьес.
Кроме этого, нельзя не вспомнить и о солнце, которое после признания Рудольфа в любви ненадолго задерживается на одном месте, но потом все-таки падает за горизонт. Здесь, вероятно, есть скрытая отсылка к Данте: если в «Божественной комедии» любовь «движет солнца и светила», то в пьесе Шиммельпфеннига она заставляет солнце замереть – так, словно солнце не ожидало увидеть в современном Берлине признание в любви на коленях. В результате происходит некий сбой в цикличности, из-за которого кассирша Билла так и не замечает, что умерла, Ханс начинает петь песни на незнакомых ему прежде языках – в том числе, кстати, и на итальянском.
Еще следует отметить, что действие пьесы начинается и заканчивается ночью, а длится ровно сутки. Сутки, за которые обычная жизнь улицы заметно меняется, сходит с тех прямых трамвайных рельсов, двух «более-менее параллельных» линий, что лежат в ее середине и неоднократно упоминаются в пьесе.
«Золотой дракон» («Der goldene Drache»)
Калейдоскопы бывают разные: в некоторых мы просто видим отдельные крутящиеся частички, а в некоторых частички сливаются в единый узор и по отдельности уже не видны. Если три первые калейдоскопические пьесы напоминают калейдоскопы с отдельными частичка- ми, поскольку в каждой из них есть отдельные от основных сюжетных линий фрагменты, то в «Золотом драконе» образуется единый узор.
Сюжетные линии этой пьесы поначалу развиваются параллельно, и лишь в конце становится понятно, что все они взаимосвязаны. Однако мы – пусть и с небольшой натяжкой – все-таки отнесем эту пьесу к калейдоскопическим. По фрагментам сюжетные линии распределены так:
-
1. Китайцы (или вьетнамцы), работающие в ресторане «Золотой дракон» (1, 3, 6, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 39, 41, 44, 46, 48)
-
2. Две стюардессы, официантка и молодой человек одной из стюардесс (1, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 42, 48)
-
3. Дед и внучка (фрагменты 2, 9, 37)
-
4. Мужчина в полосатой рубашке и его жена (4, 8, 21, 30, 35, 40, 45, 47)
-
5. Молодой человек и его забеременевшая подруга (внучка из третьей сюжетной линии) (5, 11)
-
6. Басня о муравье и сверчке (фрагменты 7, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 38, 42, 45)
-
7. Владелец киоска (14, 30, 35,
Сюжетные линии этой пьесы не связаны напрямую. Если пользоваться научным аппаратом упомянутого выше Манфреда Пфистера, то можно сказать, что «Золотой дракон» – типичный пример discrepant awareness , или diskrеpante Informiertheit , т.е. различной осведомленности героев и зрителей17. Дело в том, что сюжетные линии сходятся воедино лишь в сознании зрителя, а герои так и остаются незнакомыми между собой.
В последнем фрагменте пьесы стюардесса, которая зашла поесть в тайско-китайско-вьетнамский ресторан «Золотой дракон» и нашла в своей тарелке зуб бедного китайского иммигранта, подрабатывавшего в том же ресторане, встречается на улице с китайскими (или вьетнамскими) работниками «Золотого дракона», которые только что сбросили труп своего товарища, скончавшегося после неудачного удаления зуба от потери крови. Стюардесса подумывает, не сказать ли о своей находке работникам ресторана, но ничего не говорит.
В этой пьесе часто повторяются как мелкие, так и крупные структурные элементы. Например, часто произносятся фразы: «ich wünschte mir» («я бы желал»), «wenn ich mir etwas wünschen könnte» («если бы я мог пожелать») и т.п. О дословном повторении фрагментов мы уже говорили: это фрагменты 38 и 42. Кольцевая композиция в «Золотом драконе» пусть и не так очевидна, как в трех предыдущих пьесах, но все же она, безусловно, есть: пьеса начинается с крика от зубной боли и заканчивается немым падением удаленного зуба – того самого, что причинял боль – в реку.
Постоянное смещение перспективы и субъективация объективного также характерны для этой пьесы. Например, в четвертом фрагменте у Девушки (реплики в этой пьесе распределены не по ролям, а по актерам) такие слова: «Он говорит: “Хотелось бы мне…”» При этом местоимения «он» и «мне» относятся к одному и тому же персонажу, которого играет Девушка .
«Золотой дракон» состоит из сорока восьми фрагментов, поэтому раздробленность формы здесь очевидна. Что же касается намеренного затруднения восприятия, то, как было сказано выше, зритель лишь в конце понимает, что поначалу разрозненные сюжетные линии связаны между собой.
В качестве примера редукции в «Золотом драконе» можно привести актерский калейдоскопизм. Пять актеров играют семнадцать ролей, женщины играют мужчин, мужчины – женщин, молодые – стариков, старики – молодых. Это, безусловно, способствует образованию единого узора, для которого все частности вторичны. И уже не кажутся такими несбыточными чаяния Мужчины за шестьдесят , который играет молоденькую девушку и говорит: «Если бы я могла стать кем-то совершенно другим. Не тем, кем мне приходится быть. Другим человеком». В оригинале это звучит еще лучше, поскольку в немецком форма глагола не зависит от того, кто говорит: мужчина или женщина.
Не лишен «Золотой дракон» и смысловых отсылок к структуре пьесы. Перед смертью молодого китайца один из его соотечественников говорит: «Это – круговорот». «Да, правда, это круговорот», – подтверждает молодой китаец, и это его последние слова при жизни. Дальше, переступив черту между жизнью и смертью, он рассказывает о том, как по рекам, морям и океанам медленно возвратился на родину, к матери.
Вырванный и брошенный в реку резец со сквозной дыркой, корабль в Атлантическом океане, который из самолета видит одна из стюардесс, а также сестра китайца, которая вызывает в сознании европейца образ «далекого континента» с Китайской стеной, Запретным городом и Желтой рекой, – все это частицы, присутствие которых в пьесе, по меньшей мере, связано с раздробленностью драматургической формы, если не обусловлено ею.
«Четыре стороны света» («Die vier Himmelsrichtungen»)
Пятая калейдоскопическая пьеса Шиммельпфеннига – если не считать «Конца и начала», третьей части «Трилогии зверей» – отличается от других калейдоскопических пьес следующим драматургическим новшеством: здесь всего четыре действующих лица – мужчина (мы будем называть его Худой), девушка (Официантка), крепкий мужчина (Толстяк) и женщина (Предсказательница)
Однако даже при таком незначительном количестве персонажей в пьесе явно присутствует калейдоскопизм. Шиммельпфеннигу удается так переплести сюжетные линии четырех героев, что зритель окончательно разбирается в их хитросплетениях лишь в самом финале.
Сам по себе сюжет пьесы очень прост: двое мужчин влюбляются в одну и ту же Девушку (официантку) и дерутся из-за нее в ее присутствии. При этом один из них (Худой) живет с женщиной, умеющей предсказывать будущее. Во время драки Толстый едва ли не случайно (непроизвольная реакция на острую боль) убивает Худого, в результате чего сам он застывает, словно окаменев, на месте, Девушка с непрекращающейся головной болью попадает в больницу и больше оттуда не выходит, а Предсказательница покидает город так же, как и приехала в него двадцать лет назад – на поезде (в этом у нее есть определенное сходство со Сверчком из «До/После», которая оказалась на том же перроне спустя сорок восемь лет).
Все персонажи появляются с разных сторон света и в известной степени олицетворяют их собой: Предсказательница приезжает на поезде с востока, Толстяк – на грузовике с севера, Девушка – на автобусе с запада, а Худой приходит пешком с юга.
Если распределять сюжетные линии по персонажам, то получится следующая картина:
-
1. Худой (1, 3, 5, 7, 8, 9, 9.3, 11, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 45, 47, 49)
-
2. Девушка (1, 3, 6, 9, 9.3, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51)
-
3. Предсказательница (2, 8, 9.2, 10, 15, 20, 26, 31, 38, 40, 44, 46, 48. 52)
-
4. Толстяк (3, 4, 9, 9.3, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50).
Поскольку число действующих лиц в этой пьесе минимально и все они так или иначе пересекаются друг с другом, мы не можем говорить о не связанных напрямую сюжетных линиях, а стало быть, и считать эту пьесу калейдоскопической сообразно данному нами определению. Однако каждый из персонажей живет в своем особом мире, и неслучайно они олицетворяют собой разные стороны света. Вот почему мы все-таки можем утверждать, что эта пьеса представляет собой новый, слегка модифицированный вариант калейдоскопиз-ма – в ней мы сталкиваемся с еще одним проявлением постоянной тяги Шиммельпфеннига к новаторству.
Точно так же и кольцевая композиция в «Четырех сторонах света» немного «смещена»: между собой перекликаются не первый и последний фрагменты, а второй и последний.
Повторов же структурных элементов в пьесе предостаточно. Рефреном, звучащим на протяжении всей пьесы, служат слова о подходящем к концу времени жизни: «dass die Zeit vorbei ist». Одни и те же слова произносятся разными персонажами. Так, например, первая реплика пьесы:
Ты – Медуза, сказал он, а я – Персей, вот смотри: звезды, смотри: локоны, как змеи…
Персея всегда преследуют какие-нибудь змеи, потому что Персей отрубил голову Медузе, а у Медузы были волосы из змей. Локоны из змей.
Эй, говорит Персей, эй, у тебя локоны, как змеи, ты могла бы быть Медузой… – в начале произносится Девушкой, а в тридцатом фрагменте – Худым. Как и в «Золотом драконе», в «Четырех сторонах света» есть и полное совпадение двух фрагментов: второго и тридцать восьмого.
Перспектива в пьесе меняется постоянно – как мы только что говорили, одни и те же слова произносят разные персонажи, а одни и те же события освещаются с разных сторон – например, груз воздушных шариков, который слетает с машины Толстяка при подъезде к городу, впоследствии подбирает и перетаскивает к себе домой Худой, о чем они рассказывают соответственно в четвертом (и последующих) и седьмом (и последующих) фрагментах.
Пример субъективации объективного мы находим, сравнивая четвертый и тринадцатый фрагменты: если в четвертом ведется безличное повествование, то в тринадцатом Толстяк говорит от первого лица.
Пьеса состоит из пятидесяти двух фрагментов, причем, как мы уже отмечали, ее простой сюжет настолько запутан драматургом, что раздробленность формы и намеренное затруднение восприятия очевидны.
Характерна для «Четырех сторон света» и высокая степень редукции: герои пересекаются в некоем условном городе, в некоей условной пивной, у которых нет никаких особенностей. Вместе с тем большую роль играют отдельные детали – прежде всего, воздушные шарики, четыреста коробок с которыми слетают на крутом повороте с грузовика Толстяка и которые затем находит Худой, научившийся делать из шариков разных животных: делать что-то из ничего, из воздуха, и торговать; а также зеркало, в котором Предсказательница видит свое будущее настолько отчетливо, что порой не видит себя самой (совершенно исчезает, растворяясь в воздухе).
В качестве типичных для калейдоскопических пьес художественных образов кругового движения в «Четырех сторонах света» используется колесо обозрения, на котором в разное время катаются все герои. Этот образ служит метафорой и любви, и человеческой жизни. Так, в первом фрагменте Худой, предлагая Девушке прокатиться на колесе, спрашивает ее, каталась ли она прежде. Та отвечает утвердительно и интересуется, имеет ли это значение. Нет, констатирует Худой. А в сорок четвертом фрагменте Худой оказывается на колесе вместе с Предсказательницей, и тут ему в голову приходят совсем другие мысли:
жаль только, что эта штуковина крутится, она поднимает тебя вверх, но потом снова опускает.
Эти же слова в двадцать третьем фрагменте уже произносила Девушка.
Круговое движение присутствует и в драке – одном из ключевых эпизодов пьесы, упоминающемся в семи фрагментах: Худой крутится вокруг своей оси, пытаясь ударить Толстяка, а тот отстраняет его, выставляя вперед руку. В несколько раз повторяющемся отрывке текста движения Худого даже уподобляются движению по спирали, а в двадцать четвертом фрагменте Шиммельпфенниг употребляет в отношении Худого глагол, который употреблялся им в «До/После» относительно Ждущего мужчины : «durchdrehen»18.
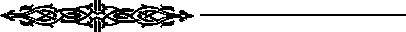
Важной отличительной особенностью этой калейдоскопической пьесы является тот факт, что в ней есть своеобразный смысловой центр: тридцать пятый фрагмент. В этом фрагменте не описывается, в отличие от всех остальных, никаких действий, а лишь приводится рассуждение, которое можно назвать резюме всей пьесы:
Все что-то продают.
Мы все стараемся что-то продать.
Или мы продаем товар, или навык, или силу, или время. Но не у всех есть что продать. И что тогда?
Тому, кому нечего продать, становится тяжело, потому что тогда он сам обесценивается.
Как же тогда жить… значит, надо, если нечего продавать, ни товара, ни навыка, ни силы, ничего, надо постараться сделать нечто из ничего, чтобы это нечто продать. А если нечего продавать, остаются лишь те вещи, о которых люди думают, что они ничего не стоят.
Находки, надежды, ложь или насилие.
Эти четыре ничего не стоящие вещи – атрибуты четырех героев пьесы: находки – Худого, нашедшего воздушные шары, надежды – Девушки, встречающейся попеременно с Худым и Толстяком, ложь как неизменный спутник всех, гадающих на кофейной гуще, картах и звездах, – Предсказательницы, а насилие – Толстяка, убившего Худого и еще двух внесценических персонажей (владельца винной лавки и директора скотобойни).
Поэтому мы вправе утверждать, что в этом смысловом центре как раз и сходятся четыре стороны света, олицетворенные персонажами пьесы: четыре стороны одной и той же реальности, где все определяется способностью продавать.
***
Мы рассмотрели пять пьес Шиммельпфеннига, чтобы объяснить понятие калейдоскопизм, заимствованное из психологии и примененное к современной драматургии. Сравнивая франклевское понятие калейдоскопизма с нововведенным, следует отметить, что если у Франкля калейдоскопизм – отрицательное явление, свидетельствующее о подмене объективного мировоззрения субъективным, то у Шиммельпфеннига субъективация объективного становится художественным приемом, что в свою очередь говорит как о справедливости наблюдений Франкля, так и о драматургическом мастерстве Шиммельпфеннига.
Разумеется, тот художественный калейдоскопизм, о котором говорится в этой статье, – нечто совсем иное, нежели психологический калейдоскопизм по Франклю. Тем не менее, форма пяти рассмотренных пьес позволяет говорить о родстве понятий, старого психологического и нового театрального: поскольку у Шиммельпфеннига содержание определяет форму («В противном случае получилась бы бессмыслица или наигранность, фальшь»19), то можно предположить, что при выборе формы он руководствовался соображениями, похожими на франклевские.
Другое дело, что используя франклевский термин для анализа пьес, мы расширяем его и наполняем актуальным для Шиммельпфеннига смыслом: мы говорим о не связанных напрямую сюжетных линиях, о раздробленности формы, редукции и т.д. Однако подобное новое применение видится вполне допустимым, коль скоро мы не меняем изначальной идеи Франкля, а лишь дополняем ее.
В мае 2009 г., незадолго до печальной кончины знаменитого немецкого режиссера Юргена Гоша, который ставил в основном только классиков и Шиммельпфеннига, драматург произнес хвалебную речь Гошу и тесно сотрудничавшему с ним Йоханнесу Шюцу. В ней он вкратце высказал концепцию пьесы, которую ему хотелось бы написать. Отдельные слова этой концепции, а также вся выраженная в ней суть пьесы удивительным образом заставляют думать о калейдоскопе и движущихся в его замкнутом пространстве частицах:
«Я представляю себе пьесу, в которой все постоянно крутится [курсив мой – С. Г. ] вокруг одного очень-очень долгого момента: как в фильме Антониони. Лужайка. Или лучше парк на задворках роскошного ресторана в юго-восточной части Берлина. Послеполуденное время, семейный праздник по случаю крещения или первого причастия, один из первых теплых, солнечных весенних дней. Ветер в высоких деревьях и траве. В парке позади ресторана большая группа празднично одетых детей, много девочек – и только двое ребят чуть постарше всех остальных. На многих девочках платья.
Дети выдумали игру. Они носятся от одного конца маленького парка к другому и пытаются поймать обоих мальчиков – тех, что постарше и посильнее. Те двое бегут впереди, а остальные следом. Их ловят, они останавливаются. В каком-то недоумении. Все на короткое время застывают в каком-то недоумении. И пойманные, и ловившие. А потом дети бегут снова. Опять. Останавливаются. И бегают. Часами.
Крики детей. Шорох ног в траве. На краю парка, на лестнице, сидят взрослые. Кто-то расположился на траве. Спокойно беседуют. В разных составах. Центробежные силы, о которых еще никто ничего не знает [курсив мой – С.Г. ]. Или: кто и знает, сегодня не хочет ничего о них знать.
Так оно и должно быть, а больше ничего: никакого прошлого, никакого будущего, никакого развития.
Крики детей. Шорох ног в траве. Наблюдающие взрослые» 20.
Список литературы Что такое калейдоскопизм? О нескольких пьесах Роланда Шиммельпфеннига
- Pfister M. Das Drama. 11.Aufl. München, 2001
- Carstensen U., Emmerling F. Theater ist immer Eskalation. Ein Gespräch mit Roland Schimmelpfennig//Schimmelpfennig R. Trilogie der Tiere. Frankfurt am Main, 2007. S. 236
- Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988. С. 59
- Haas B. Plädoyer für ein dramatisches Drama. Wien, 2007. S. 200
- Франкл В. Человек в поисках смысла/пер. с англ. и нем. М., 1990. С. 70-74
- ШАГ-2. М., 2005
- Haas B. Op. cit. S. 202
- Франкл В. Указ. соч. С. 73
- Михайлов А.В. Избранное. Феноменология австрийской культуры. М.; СПб., 2009. С. 203
- Schimmelpfennig R. Trilogie der Tiere. Frankfurt am Main, 2007. S. 242
- Шумахер Э. Указ. соч. С. 67
- Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib-und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater/S. Tigges (Hg.). Bielefeld, 2008. S. 38
- Hausbei K. Roland Schimmelpfennigs Vorher/Nachher: Zapping als Revival der Revueform//Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib-und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater/S. Tigges (Hg.). Bielefeld, 2008. S. 43-52
- Schimmelpfennig R. Die Frau von früher. Frankfurt am Main, 2004. S. 582
- Pfister M. Op. cit. S. 79
- Schimmelpfennig R. Trilogie der Tiere. S. 236
- Schimmelpfennig R. Ein Schwarm Vögel//Theaterheute. 2009. № 6. S. 37-38