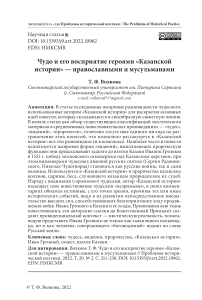Чудо и его восприятие героями «Казанской истории» - православными и мусульманами
Автор: Волкова Татьяна Федоровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются жанровые разновидности чудесного, используемые автором «Казанской истории» для раскрытия основных идей повести, которые складываются в своеобразную сюжетную линию. В начале статьи дается обзор существующих классификаций мистического материала в средневековых повествовательных произведениях -- «чудес», «видений», «пророчеств», отмечается отсутствие единого взгляда на разграничение этих понятий, что позволило рассматривать в «Казанской истории» все эти разновидности в комплексе. Наиболее часто в повести используется жанровая форма «видений», выполняющих пророческую функцию: они предсказывают задолго до взятия Казани Иваном Грозным в 1552 г. победу московского самодержца над Казанским царством, при этом визионерами чудесных явлений русских святых (Сергия Радонежского, Николая Чудотворца) становятся как русские воины, так и сами казанцы. Используются в «Казанской истории» и пророчества казанских волхвов, царицы, беса, служившего казанцам прорицателем их судеб. Наряду с видимыми («зримыми») чудесами, автор «Казанской истории» насыщает свое повествование чудесами «незримыми», в своих комментариях обнажая истинные, с его точки зрения, причины тех или иных исторических событий, видя в их развитии непосредственное вмешательство высших сил, способствовавших благоприятному ходу продвижения войск Ивана Грозного к Казани и ее осады. Пронизывая всю ткань повествования, эти авторские ссылки на Божественный Промысел создают провиденциальный контекст - мистическую реальность, помогающую представить Ивана Грозного не только как таланливого полководца, но и как человека, совершающего «боговодимый» подвиг во славу Русской земли.
Чудеса, видения, пророчества, «казанская история», иван грозный, сюжет, взятие казани
Короткий адрес: https://sciup.org/147237935
IDR: 147237935 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10962
Текст научной статьи Чудо и его восприятие героями «Казанской истории» - православными и мусульманами
«Казанская история», созданная в середине XVI в., являет собой новый тип исторического повествования, в котором слились три начала: историческое, публицистическое и бел-летристическое1. Ее автор, описывая события трехсотлетней истории русско-казанских отношений, особенно периода правления Ивана Грозного и его победоносного похода на Казань 1552 г., четко обозначил в своей «красной повести» свою политическую позицию: он, по словам Г. Н. Моисеевой, относится «к тому слою людей, которые беззаветно служили Ивану Грозному и являлись опорой царя в его прогрессивной деятельности, направленной на укрепление Русского централизованного государства» [Моисеева: 286]. Автор «Казанской истории» (далее — КИ) создал свою оригинальную концепцию русско-казанских отношений, построенную на многочисленных источниках, определенным образом им переработанных [Волкова, 1984, 2019, 2020].
Одной из художественных особенностей КИ является использование автором самых разных жанров, сложившихся в древнерусской литературе к моменту ее написания: воинской повести, жития, хождения, торжественного слова. Среди активно использовавшихся автором жанровых форм был и жанр чудес. Мы обратили на него внимание, анализируя сюжет второй части КИ, рассказывающей о походе на Казань Ивана Грозного осенью 1552 г. и о взятии ее русскими войсками [Волкова, 1985]. В этой части КИ выделяются три сюжетных линии, которые мы условно назвали «война», «мир» и «Божественный Промысел». Переплетаясь в сюжете КИ в продуманной последовательности, они способствуют раскрытию главных идей повести. Сюжетная линия «Божественного Промысла» более всего служит раскрытию одной из главных идей КИ о предопределенности свыше победы над Казанью и о «боговодимом» подвиге Ивана Грозного как полководца, которому Бог уготовил судьбу покорителя Казани, лишив этой возможности его предшественников — великих князей московских, та кже пытавшихся покорить «злогордую» Казань.
Эта сюжетная линия складывается из описания молебнов, устраиваемых перед началом похода Грозного на Казань и в ходе осады города, личных молитв царя, обращавшегося неоднократно к Богу за поддержкой и помощью, а также из целого ряда чудес, происходивших накануне похода 1552 г. на Казань и во время ее осады. Этот материал КИ еще не стал предметом специального исследования. Только два эпизода КИ из более чем двадцати, нами выявленных, упомянуты в статье Н. В. Трофимовой, посвященной чудесам в воинском повествовании [Трофимова: 77]. Эта статья, как и ряд других, помогает понять, как современные исследователи определяют жанровые разновидности чудесного.
Прежде всего отметим, что в современной науке нет строгих терминологических обозначений этих литературных форм. В рукописной традиции тексты, отражающие мистическое восприятие реальности, обычно назывались «чудесами», «видениями», «знамениями», «проречениями» (пророчествами). Некоторые из этих разновидностей текстов, запечатлевших сверхчувственный опыт автора или персонажей, достаточно хорошо изучены: «видения» — Н. И. Прокофьевым [Прокофьев] и А. В. Пигиным [Пигин]; «знамения» в составе летописей — А. А. Пауткиным [Пауткин]; чудеса в агиографических произведениях — И. В. Стародумовым [Стародумов], Е. А. Рыжовой [Рыжова]; чудеса от икон — Т. В. Нечаевой [Нечаева], С. Н. Гухманом [Гухман], А. Н. Власовым [Власов: 65–116]; в воинском повествовании — Н. В. Трофимовой [Трофимова]. Но само соотношение этих жанровых разновидностей чудесного до сих пор не решается однозначно. За ними до сих пор сохраняется некоторая самостоятельность. Наиболее исследованными оказались «видения», получившие в монографии А. В. Пигина развернутую характеристику, подкрепленную анализом целого ряда конкретных произведений. Некоторыми исследователями (И. В. Стародумов, Е. А. Рыжова) «видения» рассматриваются как одни из видов жанра «чуда».
-
Н. В. Трофимова в своей статье попыталась дать определение всем разновидностям чудесного в древнерусской литературе. Принимая в основном эти определения, приведем их перед началом нашего исследования. «Видение» исследовательница
определяет как жанр, объект которого — явление реальным людям божественных сил, пророчествующих о будущем; «знамением» называется рассказ о необычных явлениях природы, связанных с проявлением Божественного Промысла и предвещающих последующий ход событий; «чудом» — повествование о неожиданном, часто сверхъестественном событии, происходящем по воле Бога и разрешающем какие-то земные проблемы [Трофимова: 73]. При этом исследовательница признает самостоятельность жанровых форм «видения» и «знамения» по отношению к форме «чуда»: «Таким образом, чудеса в воинском повествовании представляют собой не смешивающееся с видениями и знамениями явление» [Трофимова: 78]. «Пророчество» как самостоятельную жанровую разновидность чудесного Н. В. Трофимова не выделяет, так как элементы пророчества включены ею в определения других форм чудесного. Отметим, однако, что, как показал текст КИ, пророчества могут исходить не только от высших сил, что отмечает Н. В. Трофимова, но бывают делегированы этими силами обычным людям и также могут составлять содержание либо небольших главок, либо отдельных фрагментов внутри рассказа о каких-то других событиях, что мы покажем далее.
Свою классификацию «чудес» на материале сказаний о чудотворных иконах дает Т. В. Нечаева. По мнению исследовательницы, «чудо» можно рассматривать в трех аспектах: как «историческое явление, имеющее реальную расшифровку (этот аспект раскрывается историческим комментарием текста)»; как «социально-психологический феномен, анализ которого уводит в сферу человеческого сознания, мировоззрения и мировосприятия» и как «явление литературы, обладающее характерной образностью, эмоциональной окраской и подчиненное определенным законам построения» [Нечаева: 104].
Учитывая все возможные подходы к пониманию особенностей разных жанровых форм чудесного, мы не видим практической необходимости отдельно рассматривать в ходе анализа КИ каждую из перечисленных форм чудесного, так как при всех индивидуальных особенностях жанра «видений», «знамений», «пророчеств» и «чудес» они отражают определенные представления средневекового человека о связях мира божественного и земного. Предваряя наш анализ текста КИ под углом зрения чудесного в рассказах об истории покорения Казани, следует несколько слов сказать и об отношении средневековых авторов, как и их читателей, к самому феномену «чуда». Об этом хорошо написано в статье В. В. Долгова «Чудеса и знамения в Древней Руси X–XIII вв.» [Долгов]. Историк констатирует, что чудесное — неотъемлемая часть картины мира человека раннего русского средневековья, одной из особенностей которой было «отсутствие строгого противопоставления мира божественного и земного. Сферы эти находились во взаимном непосредственном контакте. Сверхъестественное буквально пронизывало повседневность и проникало во все сферы жизни. В его возможность верили, о нем помнили и поступки совершали с пониманием того, что в повседневной жизни в любой момент может встретиться нечто чудесное, неподвластное законам обыденного существования» [Долгов: 97]. Функцию чуда в общественном сознании исследователь определяет как нишу «для “укладывания” в общую картину мира фактов, необъяснимых с позиции тривиального житейского опыта» [Долгов: 111]. С помощью чудес в средневековых произведениях «осуществлялась связь фактов повседневной жизни с иной, высшей, мистической реальностью» [Долгов: 102]. Важным для нашего исследования представляется также замечание В. В. Долгова о том, что чудо в древнерусской культуре «выступало средством идеологической борьбы, важным инструментом формирования общественного мнения» [Долгов: 97]. Эта роль картин чудесного отчетливо прослеживается и в КИ — произведении не только историко-беллетристическом, но и остро публицистическом.
Чудо в «Казанской истории»
Мы попытались использовать некоторые элементы предлагаемых исследователями классификаций чудес по их типу и содержанию. В жанровом отношении эпизоды КИ, содержащие мистический материал, следует по большей части отнести к «чудесам», которые вслед за Н. В. Трофимовой можно назвать «видимыми», «зримыми», так как чудесный элемент в них не скрыт от читателя, а предстает в виде мистического эпизода, вторгающегося в реальные земные события.
Среди таких «зримых» чудес в КИ имеется несколько видений, в основном полученных разными персонажами во сне. Все они выступают в функции пророчеств о будущем Казани, которой предстоит погибнуть как столице Казанского царства и стать православным городом — частью Русского государства. Об этом же говорят и пророчества, исходящие от казанских волхвов (глава 30) и беса, обитавшего в пустынном месте и обычно прорицавшего казанцам об их собственной судьбе (глава 32).
Первое из видений-пророчеств имеет отношение не к Казани, а к Свияжску, который Грозный приказал построить на понравившемся ему месте вблизи Казани после своего первого казанского похода. В главе 29-й описываются чудеса, связанные с явлением различным людям Сергия Радонежского, именем которого был назван один из построенных в Свияжске храмов. Святой Сергий, как комментирует автор КИ, «благими своими знаменми и чюдесы украси и прослави новый градъ свой, и от всѣх познася по всему, яко хощетъ жити в нем неотступно» [Казанская история: 392]2. Далее следует описание этих «знамений».
Первый рассказ вложен в уста старейшин — сотников горной черемисы, живущей неподалеку от Свияжска, — которые пришли к московскому самодержцу, чтобы служить ему, так как все их вельможи бежали в Казань. Эти черемисские старейшины и рассказали о чудесах, которые происходили тогда, когда Свияжска еще не было, «за пять лѣтъ» до его постройки, а место, где он был возведен, было еще пустое, и в самой Казани было спокойно. И вот, когда ничто не предвещало каких-то перемен, на месте будущего русского города начинают происходить чудеса. Сначала, говорят старейшины, «слыша-хомъ ту часто по-руски звонящу церковный звонъ», затем «слышахом гласы прекрасно поющих, яко во время церков-наго пѣния, а поющих не видѣша», наконец, «видѣвше стара <…> калугера, ходяща ту со крестом и на вся страны благо словляюще, и кропяще», как будто он любовался этим местом,
«размѣряюща, идѣже поставитися граду» (394). То, что калу-гер этот не был обычным старцем, подтверждало другое чудо — он не только ускользал от черемисских юношей, посланных привести его в Казань, чтобы узнать, откуда он явился, но и стрелы, в него пущенные, не «уязвляху его, но вверхъ идяху и сходящи с высоты, и сокрушахуся наполы, падаху на землю» (394).
Тот же загадочный калугер появляется, по рассказу следующей — 30-й — главы КИ, и в самой Казани. Его видят «многажды бо и от велмож нѣцыи сами в полудни», «по стѣнам казанским града ходяща и крестомъ град осѣняюща, и таковою же водою на четыре страны кропяща» (396).
Желая понять, что означает увиденное, казанские вельможи посылают «по хитрыя своя волхвы». Их пророчество призвано объяснить знатным казанцам смысл этого знамения: «Русь имат в борзе царство наше взяти» (396). В этой речи волхвов, прозревающих взятие Казани, проявилась та особенность КИ, которая выделяет ее среди современных ей исторических сочинений, описывающих победоносный поход на Казань 1552 г. Желая показать обреченность города, судьба которого, по мысли автора, была уже решена на небесах, автор приводит пророчества, исходящие не только от православных святых, но и от самих казанцев, наделенных даром предвидения.
В этой же роли предсказателя падения Казанского царства в главе 32-й выступает бес, обитавший в пустынном месте и предсказывавший казанцам их судьбу. К нему и послала казанская царица Сумбека «вопрошати, аще одолѣет царь Московский и великий князь Казанью или казанцы ему одолѣютъ» (400). И после девятидневной молитвы «иереев бесовских» был получен от беса недвусмысленный ответ, что царь Московский «приходитъ бо сюда со славою своею и хо-щетъ воцаритися в земли сей и просвѣтить ю святымъ крещением» (400).
Отметим, что автор часто описывает, хотя бы кратко, как эмоционально воспринимали увиденное необычное явление русские и казанцы и что они предпринимали, поняв смысл знамения. Так, в главе 30-й, описав чудесное явление калуге-ра, осеняющего крестом Казань, автор замечает, что казанские вельможи «таяху в себѣ» увиденное и «никому же того повѣда-ху», опасаясь, что «страх и боязнь преже времени на всѣ люди нападетъ», и лишь между собой «тайно» обсуждали чудо (396). А в главе 32-й после передачи пророчества о Казани беса и описания его отлета из бесовского городища в образе огненного змея автор пишет о присутствующих при этом: «Нам же всѣм зрящим и чюдящимся», — отмечая, что все они «разумѣвше все бывшее, яко ту исчезе живот ихъ» (400).
Вкладывает автор пророчество о гибели Казани и в уста одной из жен казанского царя Сафа-Гирея, родом из Сибири (398, глава 31). Чтобы заострить на этом пророчестве внимание читателей, в 38-й главе он вставляет воспоминание об этом пророчестве царицы-«сибирки» в плачь другой жены Сафа-Гирея — Сумбеки, которая, перед тем как ее насильно увезут в Москву по приказу самодержца, приходит к гробу своего мужа и винит его за то, что он не внял пророчествам своей старшей жены (414).
Следующая подборка чудес-видений относится уже к началу осады Казани войсками Ивана Грозного. В первую же ночь, когда к Казани подошли русские воины и окружили город, страшный пророческий сон увидел сам казанский царь Едигер (глава 62):
«…взыде с востока месяцъ мал и тѣмен, худ и мраченъ, и ста над Казанью. Другий же месяцъ, аки от запада взыде, зѣло пресвѣтел и велик велми, и пришед над градъ, ста выше темнаго месяца. Темный же месяцъ пред свѣтлым побѣгованъ и потрясашеся. Великий же месяцъ долго стоявъ и, яко крилатъ, полѣте от мѣста своего и, догнавъ, удари собою темнаго месяца и яко поглотивъ себе и прият, и той в нем просвѣтися. Великий же месяцъ свѣтлый пусти из себе, аки свѣзды, искры огненыя долу с небеси во градъ и сожже вся люди казанския» (476).
Далее в той же главе описывается и другой символический пророческий сон — казанского сеита. В ту же ночь он увидел «мнози стада великия многообразных звѣрей и лютѣ рыкающе: лвовѣ же и пардуси, и медвѣди, и волцы, и рыси», против которых «истѣкоша из града невеликия стада — единошер-стныя звѣри волцы, выюще». И в «час единъ» «единошерстныя звѣри» «от лютых тыхъ звѣрей изъядени быша» (476). Эти загадочные сны растолковывают царю и сеиту казанские волхвы: темный месяц в сне царя — сам казанский царь, а светлый — «московский царь князь великий», в сне же сеи-та то, что «изъѣдоша сѣрых пестрыя звѣрие — то одолѣетъ нынѣ русь казанцевъ» (476, 478).
Далее в главе 70-й, рассказывающей о том, что произошло непосредственно перед взятием Казани, автор помещает еще ряд чудес-видений, в которых уже русским воинам являются апостолы и святые Никола и Сергий, которые молятся о победе над казанцами. Первое видение в «тонком» сне посылается некоему «от болярских людей», который «раненъ велми» «у града лежаше, за туры». Во сне он видит «над градомъ сияющий велий свѣтъ и во свѣте томъ на воздусѣ 12 апостолъ стоящих», к которым приходит «муж свѣтел стар во одежди святительской, великимъ же свѣтомъ сияя» (498). Из его диалога с апостолами становится ясно, что это «угодник христовъ» Николай. Он просит апостолов о том, чтобы они благословили «мѣсто сие», на что апостолы предлагают святому «да вкупѣ с тобою помолимся». Результатом их совместной молитвы становится раздавшийся с неба «глас», подтверждающий, что молитва их услышана Богом и «отныне буди благословенъна земля сия и град сей, и да прославится на мѣсте семъ имя мое, Отца и Сына и святаго Духа» (498).
Не забыв описать реакцию больного воина на увиденное во сне («страхом великим одержимъ»), автор переходит в следующей — 71-й — главе к новому чуду-видению, которым был удостоен так же во сне «инъ <…> воинъ двора царева», к которому якобы вошел в шатер святой Николай и начал его будить со словами: «Востани, человече, и шед, рцы царю своему, ему же ты служиши, да приступает дерзновенно ко граду, всяко сумнѣние отложа…», мотивируя это распоряжение словами, в которых судьба Казани предстает как уже свершившаяся: «Богъ бо предает ему град сей и противныя ему срацыны» (500).
В этом рассказе автор не поскупился даже на сюжетную перипетию, описав неверие воина словам св. Николая: «…мня-ше сон зримое, а не истинно видѣние, и мечтание помышляше». Поэтому воин «умолча, и никому же того повѣда…». Но на следующую ночь Никола снова явился в шатер недоверчивого воина и «з запрещениемъ» сказал ему: «Не мни, человече, яко лож видѣние се, но истинну ти глаголю: востани скоро и повѣждь, яже ти преже возвестих». Только после этого воин «воставъ и текъ, повѣда самому самодержцу» слова святого (500).
Однако на этом чудеса-видения, предрекающие скорую победу над Казанью Ивана Грозного, не заканчиваются. В главе 72-й приводится еще один сон, в котором «инии же от воин, благочестивии человецы» видели себя в самой Казани, где некий старец «в ветхих ризах чернеческих» подметал городские улицы. При этом автор описывает внешний вид старца («браду же велию и густу сѣду, невелми же долгу, имущи») и приводит диалог с ним неких светлых юношей, которые называют старца святым Сергием, вкладывая в его уста еще одно пророчество о Казани: «…заутра бо у мене многия гости будут здѣ: велиции, силнии, богатии и убозии» (500). А казанцы, как описано далее в этой главе, того же старца видели в городе «явѣ», ходящим по городу и осеняющим его крестом и подметающим улицы. Услышав это от «нечестивых казанцев», русские воины увиденное «варварами» «благочестивому царю возвѣстиша». В ответе самодержца обращает на себя внимание вложенная автором в его уста уверенность в том, что он находится под покровительством Бога: «…заповѣда никому же сих чюдес повѣдати, дондеже на немъ милость божия совершится» (500).
Так, постепенно собирая факты своеобразной «глухоты» казанских правителей, не поверивших ни пророчествам русских святых, ни своим волхвам, ни царице казанской, автор показывает, чтó в конечном счете привело казанцев к гибели.
Мы рассмотрели один вид чудес, которые использует автор КИ в своем повествовании, — чудеса видимые, «зримые». Но в КИ есть и много такого повествовательного материала, который можно было бы отнести к чудесам «незримым». О возможности таких чудес пишет В. В. Долгов в указанной выше статье, подтверждая этот тезис целым рядом примеров из памятников древнерусской литературы. О «невидимых» чудесах пишет и Н. В. Трофимова: «Второй тип чудес условно можно обозначить как “невидимые”. Эти чудеса представляют собой объяснение исхода военных событий, но сами зримо, ходом событий не представлены» [Трофимова: 75]. В ряду примеров подобного рода «невидимых чудес» Н. В. Трофимова указывает и на два эпизода КИ: о приходе в лагерь Ивана Грозного под Казань черноризцев из Троице-Сергиевой лавры в главе 68-й (494) и о «пришедших фрязех ко царю и великому князю» в главе 69-й (494–498)3. Исследовательница отмечает, что в этих эпизодах благодаря появлению троицких посланцев, а затем приходу строителей-фрягов под Казань происходит чудесный поворот событий в ходе осады Казани и начинаются успехи осаждающих город русских воинов. Таким образом, «все благоприятные события, позволившие взять Казань, рассматриваются как чудеса» [Трофимова: 77]. Покажем, как в одном из этих эпизодов — о приходе в лагерь Грозного итальянских мастеров — создается мистический ореол вокруг одного из событий осады Казани. В главе 79-й сообщается, что благодаря пришедшим на помощь Грозному мастерам-фрягам, удалось сделать подкопы под казанскими неприступными стенами и взорвать в них пороховое «зелие». Чтобы подчеркнуть, что этот момент совершался по незримому божественному плану, автор КИ вводит символическую подробность: взрыв раздался именно в тот момент, когда на литургии читалось Евангелие, после слов: «И будет едино стадо и единъ пастырь», что прокомментировано автором так: «…и аки друга вѣрна с тѣмъ воедино дѣло согласистася, и в той час возгремѣ земля, яко велий громъ, и потрясеся мѣсто то все, идѣже стояще град» (512). Свершившееся после этого чудо подготавливается автором подробным описанием последствий этого взрыва:
«…и позыбахуся стѣны градныя, и в малѣ весь град не паде от основания. <…> и возвысися пламень до облака, шумящъ и кло-кочющи, аки нѣкия великия рѣки силныи прах <…> и понесе на высоту велико древие с людми, яко сѣно и прах вѣтромъ, и относя чрез воя руския, и пометаше в лѣсе и на поле далече, за 10 и за 20 верстъ…» (512, 514).
Но чудесным образом пострадали только казанцы, которых взрывом унесло далеко от Казани — туда, «идѣже нѣсть ру-ских людей». И в конце этого описания автор подчеркивает:
«И божиимъ брежением не уби древиемъ тѣмъ великим ни единаго рускаго человека» (514). Так, по мысли автора, именно Бог уберег русских воинов от летевших из города огромных деревьев.
Приведем и другие примеры «незримых» чудес, описанных в КИ. Так, в главе 25-й, рассказывающей о попытке казанцев убить царя Шигалея, московского ставленника, которого они сами пригласили на царство после изгнания из Казани царя Сафа-Гирея, автор КИ прямо связывает освобождение Ши-галея с Божьим Промыслом, трактует как чудо, хотя бегству Шигалея на Русь способствовали вполне земные обстоятельства — переход на его сторону «болшаго князя — властителя казанского» Чуры Нарыковича, подготовившего побег Шига-лея. Но хлопоты его автор тоже изображает как следствие вмешательства Бога, который «вложи» в сердце Чуры «милосердие о царе». Описывая жизнь Шигалея как пленника, его ожидание «напрасныя смерти», автор упоминает и о том, что Шигалей «втай небеснаго Бога моляше по вѣре своей», но при этом «и руских святыхъ на помощъ призываше». А затем прямо говорит о том, что «царская смерть без вѣдома божия не бывает», как и смерть каждого человека, но «вся бо умирает судом его» (376). Поэтому, когда читателю сообщается о том, что «пущенъ бысть царь из Казани Чюрою», автор тут же поясняет, кем был на самом деле спасен Шигалей — «реку Богомъ». Так перипетии казанской жизни царя Шигалея под пером автора наполняются провиденциальным содержанием, и спаситель Чура оказывается лишь проводником Божественного Промысла относительно Шигалея, обратившегося в молитвах за помощью к Богу.
Как своеобразное чудо в следующей — 26-й — главе, повествующей о судьбе Сафа-Гирея, вновь возвратившегося в Казань, описывается нелепая смерть царя:
«Мечь и копие не уби его, и многажды на ратѣх смертныя раны возлагаху нань, нынѣ же, пьянъ, лице свое и руце умываше и напрасно занесеся ногама своима, и главою о умывалничный теремец ударися до мозгу, и о землю весь разразися…» (382).
О том, что эта бесславная смерть сурового воина — не случайность, а Промысел Божий, говорит читателю вводящее это сообщение восклицание автора «Словес Божиих суд!», а затем и сам герой перед смертью осознает, что он сам своей жестокостью по отношению к русским заслужил такую смерть: «Нѣсть ино ничто, но кровь християнская уби мя» (382). Таким образом, автор КИ, рисуя бытовые и военные события, казалось бы, вполне объяснимые с земной точки зрения, все время вторгается в текст повествования своими комментариями этих событий, показывая их мистическую связь с теми решениями, которые относительно участников этих событий приняли высшие силы. Такой провиденциальный контекст создается и в целом ряде других эпизодов КИ.
Но особенно активно «незримыми» чудесами КИ начинает насыщаться в той части повествования, где в качестве главного героя в сюжете выступает Иван Грозный, которому, по концепции автора КИ, Бог уготовил честь стать покорителем Казани. В начале казанского похода 1552 г. продвижению русских войск могли серьезно воспрепятствовать объединенные силы казанского и крымского царей, которые рассчитывали отвлечь Ивана Грозного от осуществления его главной цели — осады и взятия Казани (глава 55). И снова в нужный момент появляется авторский комментарий, почему и на этот раз противникам Грозного не удался их замысел: «И не попусти имъ Богъ того быти по воли ихъ» (458). Когда крымский царь увидел приближение «воеводъ московских», «нападе на нь страхъ и трепетъ, воставъ и побѣже нощию от града Тулы, и весь наряд свой у града помѣтавше с великим страхом и сра-момъ» (460). И опять краткий авторский комментарий открывает истинную причину столь внезапного бегства крым-цев, резко поменявших свои первоначальные намерения остановить поход Ивана Грозного на Казань: они побежали «гоними Божиимъ гневомъ». Таким образом, и здесь за внезапной сменой воинственного духа крымских воинов на «страх» и «трепет» автор КИ увидел Промысел Божий, воздействие божественной энергии на сознание врагов его избранника, Ивана Грозного, которому ничто не должно помешать дойти до Казани и покорить ее.
Русское войско в КИ преодолевает и природные препятствия на своем пути. В главе 59-й, описывающей переход русского войска во главе с Иваном Грозным к Казани, автор сообщает о своеобразном климатическом «чуде», которое помогло русским воинам беспрепятственно преодолеть путь по местности, которая вся была «велми наводнена» «рѣками и езеры, и бла-ты» (470). Но летом 1552 г., по рассказу КИ, из-за длительного отсутствия дождей «непроходные» казанские земли стали доступны для свободного перемещения по ним русских воинов. Однако в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», послужившем одним из основных источников исторического материала для автора КИ, рисуется совсем иная картина погодных условий, в которых проходил переход русских войск к Казани: «…бѣ тогда время дождиво и воды в реках велики»4. Автор КИ оставляет без внимания эти сведения «Летописца», подтверждаемые и другими летописями, и говорит о том, что «от солнечнаго бо жара непроходныя тѣ мѣста — дебри и блата, и рѣки — вся преис-хоша. И полцы же рустии по всей земли непроходными тѣми пути безнужно ѣздяху» (470). Автору КИ важно было показать, что Божественный Промысел проявил себя и в данном случае, поэтому он сопровождает рассказ о переходе русских к Казани своим провиденциальным комментарием: такая засуха была послана в эти места свыше «за согрѣшения же к Богу казанских людей» (470), а необходимые ему для такой картины описания он извлекает из другого летописного источника — Новгородской IV летописи, причем из фрагмента, относящегося к событиям времен прадеда Грозного — Ивана III [Волкова, 1985: 313]. Этот эпизод вписывается в сюжетную линию «Божественного Промысла» на важном для сюжета КИ этапе, рисующем предшествующие осаде Казани события. Они, как и ход самой осады, освещены очередным свидетельством «незримого» чуда, ниспосланного Богом его избраннику — Ивану Грозному, будущему покорителю Казанского царства.
Мы обратили внимание на все эти эпизоды, рисующие в КИ проявление «незримых» чудес, потому что они в ней — не просто этикетные ссылки на Божественный Промысел, а в совокупности обнаруживают сознательный литературный прием, с помощью которого в КИ создается целая сюжетная линия, призванная раскрыть одну из важнейших идей повести — изобразить поход Ивана Грозного на Казань как «боговодимый» подвиг «московского самодержца». Пронизывая всю ткань исторического повествования, эти провиденциальные авторские вкрапления в текст, постепенно накапливаясь, переводят перипетии казанского похода в иную, мистическую, сферу, обнажая истинный, с точки зрения автора, смысл описываемых событий. Поэтому нельзя согласиться с Г. Н. Моисеевой, писавшей, что «победу Русского государства над Казанью автор представляет не как “боговодимый подвиг царя”», а как тяжелый труд русского воинства и его главы — Ивана Грозного [Моисеева: 288]. Уникальность КИ как раз и состоит в том, что ее автор построил такой сюжет, в котором удалось показать главного героя — Ивана Грозного — и как миротворца, не хотевшего проливать кровь казанских людей, и как искусного военачальника, и как избранника Божьего.
Заключение
Мы рассмотрели мистический материал КИ, выбрав наиболее интересные фрагменты. В совокупности они свидетельствуют о том, что жанры «чуда», «видения», «пророчества» весьма активно использовались автором КИ для раскрытия главных идей его «новой» и «красной» повести, среди которых важное значение имеет идея божественного покровительства Ивану Грозному. Именно оно, по мысли автора, помогло «московскому самодержцу», наряду с его военным талантом и устремленностью к победе над Казанью, покорить Казанское царство, с чем не справились его предшественники — великие князья московские. В своем повествовании автор использует разные формы чудесного — и «видения» (во сне и наяву) разным персонажам, как русским, так и казанцам, предсказывающие скорую гибель города и обычно сопровождаемые краткими описаниями тех эмоций, которые эти «видения» вызывали у наблюдавших их персонажей, и прямые пророчества, вложенные в уста как реальных (казанская царица), так и мистических (бес) персонажей. При этом иногда описывается облик чудесно проявившихся «потусторонних» героев, а их «явления» визионерам дублируются, создавая перипетии в сюжете. Помимо видимых («зримых») чудес автор КИ рисует и множество чудес «незримых»: описывая реальные исторические события, он вплетает в ткань повествования такие комментарии, которые вскрывают «истинные», с его точки зрения, причины этих событий, показывая связь их с высшей Первопричиной — Богом, который и руководит всеми поступками действующих лиц и даже самой природой. Эти «зримые» и «незримые» чудеса образуют в КИ четко выделяющуюся сюжетную линию, создающую мистический контекст исторического повествования.
Список литературы Чудо и его восприятие героями «Казанской истории» - православными и мусульманами
- Власов А. Н. Устюжская литература XVI–XVII вв. Историко-литературный аспект. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 1995. 212 с.
- Волкова Т. Ф. Проблема авторской позиции в историко-публицистическом повествовании XVI в. (на материале сочинений современников о взятии Казани в 1552 г.) // Стиль и идеология: активность авторского повествования. Сыктывкар, 1983. С. 4–17.
- Волкова Т. Ф. «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича» и троицкие сочинения о взятии Казани как источники текста «Казанской истории» // Древнерусская литература. Источниковедение. Л.: Наука, 1984. С. 172–187.
- Волкова Т. Ф. Работа автора «Казанской истории» над сюжетом повествования об осаде и взятии Казани // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1985. Т. 39. С. 308–322.
- Волкова Т. Ф. Словесный портрет в «Казанской истории» // Исследования по древней и новой русской литературе. Л.: Наука, 1987. С. 42–47.
- Волкова Т. Ф. «Вещный мир» «Казанской истории» // Проблемы изображения материального мира в художественной прозе. Сыктывкар, 1989. С. 14–21.
- Волкова Т. Ф. Сюжетная организация «Казанской истории» // Филология как призвание: сб. ст. к юбилею проф. Владимира Николаевича Захарова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2019. С. 291–306.
- Волкова Т. Ф. Сюжет и вымысел в историческом повествовании Древней Руси XI–XVI веков. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2020. 114 с. (Серия: Слово и текст в контексте культуры.)
- Гухман С. Н. Повесть о трех иконах Шемахинских // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 46. С. 109–125.
- Долгов В. В. Чудеса и знамения в Древней Руси X–XIII вв. // Исследования по русской истории: сб. ст. к 65-летию проф. И. Я. Фроянова.СПб.; Ижевск, 2001. С. 97–113.
- Казанская история / подгот. текста и перевод Т. Ф. Волковой; коммент. Т. Ф. Волковой и И. А. Евсеевой // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI в. М.: Худож. лит., 1985. С. 300–565.
- Моисеева Г. Н. Автор «Казанской истории» // Труды Отдела древнрусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 9. С. 266–290.
- Нечаева Т. В. Наблюдения над жанровыми особенностями сказаний о чудотворных иконах // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1995. Сб. 8. С. 102–123.
- Пауткин А. А. Беседы с летописцем: поэтика раннего русского летописания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 285 с.
- Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности / науч. ред. Е. М. Юхименко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 432 с.
- Прокофьев Н. И. Видение как жанр в древнерусской литературе // Вопросы стиля художественной литературы: сб. ст. М., 1964. С. 35–56. (Ученые записки Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина; т. 231.)
- Рыжова Е. А. Жанр видений в севернорусской агиографии // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 160–194.
- Стародумов И. В. Жанровая специфика повествований о посмертных чудесах северных святых подвижников // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Челябинск: Изд-во ООО Полиграфическая компания «Прессто», 2008. Вып. II. С. 233–245.
- Трофимова Н. В. Чудеса в древнерусском воинском повествовании // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2011. № 4 (33). С. 72–79.