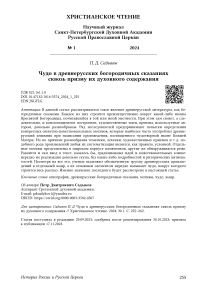Чудо в древнерусских богородичных сказаниях сквозь призму их духовного содержания
Автор: Садыков П.Д.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 1 (108), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается такое явление древнерусской литературы, как богородичные сказания. Каждое из них строится преимущественно вокруг какой-либо иконы Пресвятой Богородицы, почитавшейся в той или иной местности. При этом сам сюжет, а следовательно, и композиционное построение, художественные идеи, приемы, используемые автором, довольно разнообразны. Ряд исследователей предпринимают попытки определения конкретных сюжетно-повествовательных мотивов, которые наиболее часто употреблял древнерусский книжник при написании произведения, посвященного чудотворной иконе Божией Матери. Но по причине разнообразия тематики, лексики, художественных приемов и т. д. подобного рода произведений любая их систематизация является, как правило, условной. Отдельные мотивы представлены в широком корпусе памятников, другие же обнаруживаются реже. Разнится и сам ввод в текст, казалось бы, традиционных идей и повествовательных клише: нередко их реализация довольно скупа, без каких-либо подробностей и риторических витиеватостей. Несмотря на все это, ученые выделяют обозначенную группу древнерусских произведений в отдельный жанр, а их основным элементом нередко называют чудо, вокруг которого строится весь рассказ. Именно значение последнего будет рассмотрено в настоящей статье.
Агиография, древнерусские богородичные сказания, мотивы, чудо, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/140305479
IDR: 140305479 | УДК: 821.161.1.0 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_1_255
Текст научной статьи Чудо в древнерусских богородичных сказаниях сквозь призму их духовного содержания
17.11.2023.
С Крещением Руси началось зарождение русской культуры. Ввиду глубоких связей церковно-государственных отношений и особого места религии в жизни древней и средневековой Руси православная традиция наложила большой отпечаток на быт, языковую и национальную специфику, литературу, искусство, архитектуру и т. д. Как верно замечает протопресв. Александр Шмеман, «Немеркнущей славой Церкви является и воспитание христианских народов, осознавших цель и смысл своего национального бытия в служении христианской истине… Таков идеал Святой Руси и великой русской культуры, неотделимой от вскормившего ее православия» [Шмеман, 2018, 49]. На многие столетия книжная деятельность, письменность, образование стали заключены исключительно в церковные рамки (см.: [Карташев, 1928, 36]).
Рассуждая о жанрах литературы Древней Руси, Д. С. Лихачев выделяет две жанровые группы — «светские» и церковные, и замечает: «Я беру слово „светские“ в кавычки, так как по существу они были тоже церковными по содержанию, а „светскими“ они были только по их назначению» [Лихачев, 1986, 80]. Действительно, наличие церковной специфики практически любого древнерусского произведения не вызывает никаких вопросов, это является неоспоримым фактом.
Отдельное положение в череде всех письменных творений IX–XVII вв. занимает агиографическая литература. Под ней преимущественно подразумеваются жития, посвященные трудам, служению подвижников благочестия (см.: [Руди и др., 2008, 283]). Их широкий спектр становился и продолжает становиться предметом изучения лингвистов и литературоведов.
Но к церковным жанрам, если исходить из терминологии Д. С. Лихачева, относятся и так называемые богородичные сказания, главным предметом повествования которых выступают таинственные события явления и чудеса разных икон Божией Матери.
Подобного рода произведений насчитывается значительное количество (см.: [Лихачев, 1987, 158]), и они вызывают не меньший интерес в научной среде, чем жития святых. Лишь по предварительным сведениям Н. К. Никольский включил в свою картотеку более тысячи наименований сказаний о чудотворных иконах, большая часть из которых посвящены Божией Матери (см.: [Лихачев, 1987, 158]). Следует отметить, что данное собрание является довольно ценным и фундаментальным. Над его созданием академик трудился на протяжении нескольких десятилетий, так и не успев завершить (см.: [Жуков, 2015; Лихачева, 2018]). Определить место богородичных сказаний в этой картотеке еще предстоит исследователям.
Древнерусские литературные произведения об иконах Божией Матери обладают особой спецификой изложения, композиционного построения, идейносодержательной составляющей. Ввиду своего повествовательного и структурного разнообразия они не поддаются точной классификации, как в случае иных агиографических произведений. И поэтому невозможно определить точный канон данных повествований. Хотя нельзя не признать, что некоторые ученые предпринимают попытки выработать общие характеристики, уточнить мотивы и сюжетные линии, которые бы позволили определить границы настоящего жанра [Кириллин, 2009; Конявская, 2014; Нечаева, 1995]. Но все они отмечают сложность такого начинания. «Сказания об иконах — не простой, не однотипный в историко-литературном и жанровом отношении факт древнерусской письменности», — заключает в одной из своих публикаций В. М. Кириллин [Кириллин, 2009, 62].
В отличие от иных агиографических произведений, в основе богородичных сказаний преимущественно лежит чудо , вокруг которого выстраивается все повествование. Нередко ученые относят данный критерий к основному признаку жанра (см., напр.: [Нечаева, 1995, 104]). Именно поэтому необходимо более подробно рассмотреть данный критерий.
«Обиходное представление о чуде, нашедшее отражение в том числе и в средневековых источниках, чаще всего связно с очевидным и при этом необычным событием», — пишет Н. И. Петров [Петров, 2017, 179]. Действительно, если обратиться к древнерусским богородичным сказаниям, под чудом, как правило, понимается некое таинственное событие, произошедшее с образом, или житейская помощь, поданная по молитвам перед ним. Например, в Сказании о чудесах Владимирской иконы Богородицы собрано десять чудес, посвященных чудесным исцелениям и спасению от смерти (Сказание о чудесах Владимирской, 1997): исцеление («Боляшеть нѣкая жена в Муромѣ срдчною болѣзнию, и слышавши от Святѣй Богородици бываемая чюдеса… И яко принесоша воду, въкусивши, и бысть здрава» (Сказание о чудесах Владимирской, 1997, 222)); чудесное спасение от смерти («Посла человека въ рѣку пытать броду. И яко вниде в рѣку на кони и погрязе во дно. Князь же начать молитися ко иконѣ… яко повиненъ есмь смерти его: „Госпоже, аще не ты избавиши“. И се бысть немного молящюся ему, абие изиде среди р4к4 члък онъ на кони» (Сказание о чудесах Владимирской, 1997, 218)). Под чудесами в богородичных сказаниях подразумевается и мистическое перемещение («Пов^доша ему (князю Андрею. — П. С.) икону Выш4-города в женьском манастыри Пресвятыя Владычица нашеа Богородица, яко 3-жды ступила (т.е. сходила [Словарь русского языка, 2008, 222]. — П. С.) с мЪста» (Сказание о чудесах Владимирской, 1997, 218)); явление (например, мистическое: «Исперва явися икона Пречистыа чудотворнаа образ Одигитрие на Оати в Въмоченицах. А тое вести нетъ откуду явилася» (Сказание о Тихвинской Одигитрии, 2007, 238) или неожиданное появление на каком-либо месте, где и обрели образ: нэ‘кéи члЌкъ про‘стъ посåлѧ‘нинъ зåмлåдэлåцъ у†бо‘гъ, иˆмåнåмъ л¹ка’, и† то‘и нэ‘когда хожа‘шå в лэ‘сå бли´ жили‘ща своåго’. и† ви‘дэ на нэ‘коåN дрå‘вэ и†ко’н¹ со двåма’ затво‘рци сто‘щ¹ (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 193 об.)), знамение («Сице нача являтися дѣвицы оной, ейже имя преди рекохом, икона пресвѣтлая Божия Матери, и веляшей ей поити во град и повѣдати про икону Богородицыну» (Повесть о явлении и чудесах Казанской, 2006, 32)) и др.
Т. В. Нечаева утверждает, что в богородичных сказаниях само чудо, связанное с иконой, обязательно сопрягалось с «многочисленными местными историческими и религиозными преданиями» [Нечаева, 1995, 106] и, соответственно, приобретало политическое значение [Нечаева, 1995, 106-107]. Изложенная мысль является неоспоримой, на что нередко указывает локальность почитания иконы и сам исторический момент, когда фиксируется в письменном виде повествование об образе.
В этом заключается ключевое отличие древнерусских произведений от византийских версий данного типа. Последние в большинстве своем носили характер полемики с иконоборчеством, то есть отвечали на запросы исторической эпохи, во время которой появлялись. Данная тематика не была интересна русскому книжнику, поскольку вопрос о почитании икон остро не стоял.
Иными словами, сам жанр богородичных сказаний, перенятый от византийской традиции, как и иные литературные разряды, был кардинальным образом переосмыслен на Руси и наделен новыми характеристиками в соответствии с наиболее животрепещущими запросами общества. Как верно замечает Д. С. Лихачев, «Обслуживая регламентированный средневековый быт, жанровая система литературы, перенесенная на Русь из Византии и Болгарии, не удовлетворяла... всех человеческих потребностей в художественном слове» [Лихачев, 1986, 80].
Описанные тенденции при написании богородичных сказаний на Руси становились причиной использования обозначенных выше мотивов, сопряженных с таинственным характером события, проявлением Божественной воли и заступничества Пресвятой Девы. Делалось это с целью повышения авторитета продвигаемой философской или идеологической идеи через ее религиозное обоснование и принятие Церковью.
В качестве примера можно привести Сказание о Владимирской иконе Божией Матери, в котором, по словам И. Л. Жучковой, «Автор стремился подчеркнуть общегосударственную значимость культа Владимирской иконы. Мысль об особом покровительстве Богородицы столице, об избранности Москвы среди других русских городов становится доминирующей в сказании» [Жучкова, 1989, 361].
Идеологическая составляющая ярко прослеживается и в Повести о явлении Ко-лочского образа Пресвятой Богородицы (кон. XV — нач. XVI вв.), посвященной основанию монастыря на месте явления иконы неподалеку от Можайска (РГБ. Ф. 304/I.
№ 679. Л. 193 об. — 197). Ученые объясняют популярность и распространение этой истории стремлением противостоять усилению Москвы и процессу объединения вокруг нее земель: «Чудесами и видениями защищались областные сепаратисты от наступления централизующей московской власти» [Адрианова-Перетц, 1948, 9]. Хотя со временем сюжет произведения перестал ассоциироваться с идеологией, а начал восприниматься исключительно как обычное повествование о некогда случившемся чуде (см.: [Кельманов, 2021, 48]).
Таким образом, для древнерусского сознания чудеса от богородичных икон выступают особым проявлением милости Божией и заступничества Пресвятой Девы к городу или селению, в котором происходило описываемое — таинственное — событие. И поэтому оно призвано было свидетельствовать о самодостаточности, особом статусе той или иной локации, местного правителя и т. д.
Однако следует заметить, что использование исключительно такого, в некоторой мере рационалистического, подхода к рассмотрению агиографических памятников сужает область исследования и может привести к не слишком корректным результатам, поскольку происходит игнорирование отдельных причин, которые побудили книжника письменно зафиксировать услышанную историю. К тому же по причине изначальной уверенности в подложности того или иного сверхъестественного события может остаться без внимания реально произошедший факт (см.: [Петров, 2017, 181]).
В целом приходится констатировать, что в разного рода исследовательских работах преимущественно можно наблюдать критическое восприятие чуда в историческом контексте. Н. И. Петров выделяет два варианта таковых: 1) сознательная ложь автора (преимущественно в исследованиях советского периода) и 2) проявление психологических особенностей эпохи (более распространен в настоящее время) (см.: [Петров, 2017, 179–180]). Хотя в отдельных церковных и околоцерковных публикациях нередко прослеживаются неприкрытые попытки авторов «признать историческую достоверность любого восходящего за пределы обыденности известия того или иного… церковного предания» [Петров, 2017, 180].
Возвращаясь к богородичным сказаниям, справедливым представляется суждение В. М. Кириллина, который, признавая исторический контекст создания богородичных сказаний, подчеркивает их духовное значение для человека Древней Руси: «Согласно… повествованиям, иконы Пресвятой Богоматери… таинственно и непостижимо соединяли мир иной и человека, принимая деятельное, „чудесное“ участие в жизни грешного мира… Основу преданий составляли обычно реальные исторические факты, которые, однако, древнерусскими писателями... могли быть осмыслены лишь в религиозной форме» [Кириллин, 2009, 60].
Для пояснения настоящей позиции предлагается рассмотреть концепт чуда, являющегося неоспоримой чертой всех богородичных сказаний, в Повести о Выдропус-ской иконе Божией Матери, которая по жанру тесно сопряжена с историко-бытовой повестью (см.: [Кириллин, 2017, 162]).
Произведение посвящено событиям, развернувшимся после похода на Великий Новгород Иоанна III (РГБ. Ф.304/1. №679. Л.218-218об.). Возвращаясь в свои муромские владения, один из воинов украл в храме села Выропуска (на тот момент относилось к Новгороду, а в настоящее время входит в состав Тверской области) образ Божией Матери Одигитрии и поставил его в храме своего села ( поста‘ви юˆ в сåл’э своå‘мъ. въ хра‘мэ вåли‘каго чюдотво‘рца нико‘лы и˜ та‘мо wˆбраз прTтыş мтzрå въ црzкви стоş’щå (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 219 об.). Во время же одного из молебнов перед этой иконой главный герой повествования дерзнул сказать: § пои ми молЕбЕнъ полонанке (от полонАнка — пленница ; та, что захвачена у неприятеля в качестве трофея [Словарь русского языка, 1990, 244]. — П. С. ) еже причи стеи бцы одЕгитрТю, юже полони вновъгростьи W'бласти (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 219 об. — 220). После икона с иным местным богородичным образом Умиления таинственно исчезла. За этим последовало раскаяние воина, и он отправился в Выдропуск для принесения слезного покаяния.
В данном повествовании чудо можно понимать двояко.
Во-первых, это, конечно же, видимое событие, связанное сначала с таинственным исчезновением образа из муромского храма вместе с иконой Умиления: W вåли‘коå чю‘до внåза‘п¹ трT¹ бы‘сть во хра‘мэ то‘мъ. прéи‘дå ви‘хоръ, и˜ гро‘м¹ бы‘сть вåли‘к¹ . и˜ потрşсå‘сş мэ‘сто, и˜ хра‘мъ вå‘сь. и˜ разст¹пи‘сş покро‘въ црzковныи и˜ нåви‘димою силою поDясş wˆбраз § мЭста шзыде из цркви верхомъ црковнымъ (РГБ. Ф.304/1. №679. Л.220). Затем произошло их чудесное появление в храме вмч. Георгия в Выдропуске: Нэкéи жå члzкъ того сåла’ вы’дроп¹’ска… Зри ди’вно чю’до и˜ ра’дости и˜спо’лнåнно. wˆбра з прåнåпоро’чны ѧ прT¡ты ѧ и влDђчцы на’шå ѧ бzца чTтнаго и˜˜ сла’внаго wˆдåги’трé, напрTтлåво wлтарэ ни’ць лåжа’щ¹ юˆжå и˜зъ црzкви вз ѧ wˆнъ сéи во’инъ и˜снåсå’ юˆ вм¹’ромск¹ wˆбласть всåло’ своå’. а др¹éи wˆбра з с нåю пришDåшь. прTчта ѧ умилЬтЕ (РГБ. Ф. 304/I. № 679. Л. 220 об. — 221).
Стоит отметить: само чудесное событие сопровождается описанием ряда явлений, характерным для произведений подобного рода. Например, неожиданное ^внезап^ — внезапно [Словарь русского языка, 1975, 238]) изменение погодных условий ( тр8 — имеет несколько значений, каждое из которых подходит к указанному отрывку: землетрясение (образно); буря; грохот, шум [Словарь русского языка, 2015, 207–208]). Данное описание представлено довольно подробно — с некоторыми уточнениями: поднялся ветренный вихрь, случился сильный гром, само же здание храма потряслось.
Во-вторых, и это наиболее значимо для древнерусского книжника, речь идет о духовном преображении и исправлении действующего лица произведения. Боярин осознает свой проступок (небрежное отношение к образу) и с покаянным чувством, оставив свое воинское звание, отправляется в Выдропуск, где похитил икону местного храма.
Изменение и раскаяние человека само по себе уже является чудом и для православного богословия имеет наибольшее значение. Внешняя таинственность, то есть видимая составляющая чуда (исцеление, воскрешение и т. д.), как правило, носит второстепенный характер и призвана привести человека к вере или укрепить его в ней. Наглядно это продемонстрировано в евангельском эпизоде об исцелении капернаумского отрока: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его (Ин 4:53). Данный фрагмент, по мысли еп. Кассиана (Безобразова), упомянут ап. Иоанном Богословом «не ради его исторического значения… а ради того внутреннего смысла, который в нем открылся… знамение ведет к вере… и выражает содержание веры» [Кассиан Безобразов, 2004, 65].
При этом, к сожалению, нередко подобные явления (обретение веры или духовное исправление) в агиографических произведениях не относят к чуду . Все внимание исследователей, как правило, приковано именно к внешним составляющим: исцелениям, явлениям святых после смерти, наказаниям за неверие и т. д. (см., напр.: [Медведев, 2014; Стародумов, 2009]). Безусловно, это связано с тем, что сам феномен чуда продолжает требовать дальнейшего осмысления в междисциплинарном ключе и поиске «некоего общего пространства мысли, в пределах которого представители разных мировоззрений осуществят свои стремления к постижению сообщений о чудесных событиях» [Петров, 2017, 198].
Стоит признать, в некоторых работах предпринимается попытка переосмысления темы чуда в агиографии. Так, свящ. А. Рыженков выделяет «две цели (феномена чуда. — П. С. ) — помощи ближнему и призыва ближнего к нравственному преображению, спасению и святости; достижение первой цели открывает возможности для осуществления второй цели» [Рыженков, 2022, 147]. Но такое восприятие агиографии до сих пор остается специфичным.
Это происходит по причине узкого толкования древнерусских произведений, о котором говорилось выше. Игнорирование религиозной специфики общества того времени, а соответственно, и убеждений самого книжника представляет текст повествования довольно упрощенным и сводит его лишь к запечатлению некоторой легенды , тогда как в кон. XVI — нач. XVII столетий еще сохранялась верность литературной традиции. И авторы, несмотря на все бытовые отвлечения и дополнения (см.: [Кириллин, 2017, 159–173]), стремились подчеркнуть духовную составляющую описываемого события и извлечь из него урок для нравственного совершенствования.
При этом надо подчеркнуть: речь идет не об исключительной достоверности всего произведения, а о главных целях, которые ставил перед собой автор, предваряя письменную фиксацию повествования.
Если вернуться непосредственно к Сказанию о Выдропусской иконе, можно предположить: именно второй аспект чуда , выделенный в настоящей статье, относит данное произведение к богородичным сказаниям. Без духовного преображения героя, даже при условии исчезновения иконы, это была бы простая повесть об одном из периодов жизни некоего воина-боярина.
Иными словами, главным жанровым признаком богородичного сказания в Повести о Выдропусской иконе выступает нематериальное чудо изменения человеческой души. И если говорить о чуде как основном жанровом признаке рассматриваемых произведений, наиболее верно остановиться прежде всего на духовной составляющей таинственных событий, происходящих по молитвам перед богородичной иконой или возникающих неожиданно вследствие проявления особого заступничества Божией Матери.
Следовательно, древнерусские богородичные сказания при всем своем разнообразии, несомненно, имеют отличительные черты и так называемые общие места.
Наиболее релевантным жанровым признаком для рассматриваемой категории можно по праву считать чудо, вокруг которого строится все повествование.
Серьезное внимание нужно уделить причинам появления того или иного агиографического памятника, посвященного чудотворной иконе Божией Матери. Отказ от ограниченной герменевтики произведения — объяснения его элементов только при помощи политических, идеологических и философских причин — позволяет представить более точный комментарий, приблизиться к первоначальному восприятию текста. Для этого, помимо исторического контекста, необходимо учитывать религиозные представления, традиции и предпочтения, типичные для конкретного периода, а также само нравственное православное богословие, которое нередко в сжатом виде стремились раскрыть в своих творениях древнерусские книжники.
Безусловно, речь не идет о безоговорочном принятии содержательной части, но о необходимости постепенного переосмысления советской традиции анализа древнерусских произведений. Наиболее важная задача современного исследователя-медиевиста состоит в попытке приблизиться к автору той эпохи и попытаться взглянуть на произведение с его стороны.
Список литературы Чудо в древнерусских богородичных сказаниях сквозь призму их духовного содержания
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2014. 1296 с.
- Повесть о явлении и чудесах Казанской (2006) — Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2006. Т. 14. С. 24–53.
- РГБ — Российская государственная библиотека. Ф. 304/I. № 679. Л. 193 об. — 197; 218–225 об.
- Сказание о Тихвинской Одигитрии (2007) — Сказание о Тихвинской Одигитрии // Кириллин В. М. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери «Одигитрия». М.: Языки славянских культур, 2007. С. 238–241.
- Сказание о чудесах Владимирской (1997) — Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 4. С. 218–225.
- Адрианова-Перетц (1948) — Адрианова-Перетц В. П. Основные задачи изучения древнерусской литературы в исследованиях 1917–1947 гг. // ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 6. С. 5–14.
- Жуков (2015) — Жуков А. Е. Памятники древнерусской исторической книжности в картотеке Н. К. Никольского // Христианское чтение. 2015. № 6. С. 174–187.
- Жучкова (1989) — Жучкова И. Л. Сказание о иконе Богоматери Владимирской // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 283–287.
- Карташев (1928) — Карташев А. В. Влияние Церкви на русскую культуру // Путь. 1928. № 9. С. 33–40.
- Кассиан Безобразов (2004) — Кассиан (Безобразов), еп. Водою и кровию и Духом: Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: ПИК ВИНИТИ, 2004.
- Кельманов (2021) — Кельманов Д., свящ. Сказание о Колочской иконе Божией Матери и ее значение в формировании русской государственности // Церковный историк. 2021. № 1 (5). С. 41–49.
- Кириллин (2009) — Кириллин В. М. Жанрово-тематические особенности древнерусских сказаний об иконах // Вестник славянских культур. 2009. Т. XII. № 2. С. 60–68.
- Кириллин (2017) — Кириллин В. М. Повесть о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете древнерусской литературной традиции // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 1. С. 150–183.
- Конявская (2014) — Конявская Е. Л. Древнерусские сказания о чудотворных иконах: особенности нарратива // Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к Новому времени: К юбилею члена-корреспондента РАН Е. К. Ромодановской. Новосибирск: Омега Принт, 2014. С. 54–58.
- Лихачев (1986) — Лихачев Д. С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л.: Наука, 1986. С. 79–95.
- Лихачев (1987) — Лихачев Д. С. Человек в древнерусской литературе // Лихачев Д. С. Избранные труды. Л.: Художественная литература, 1987. Т. 3. С. 3–164.
- Лихачева (2018) — Лихачева О. И. Картотека древнерусской книжности академика Н. К. Никольского и перспективы изданий памятников древнерусской литературы // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2018. № 1 (9). С. 180–183.
- Медведев (2014) — Медведев А. А. Изображение посмертных чудес в святительских житиях: на материале житий митрополитов Петра, Алексия, Ионы // Вестник славянских культур. 2014. № 2 (32). С. 151–157.
- Нечаева (1995) — Нечаева Т. В. Наблюдения над жанровыми особенностями сказаний о чудотворных иконах // Герменевтика. 1995. Сб. 8. С. 102–123.
- Петров (2017) — Петров Н. И. Чудо как исторический факт: к постановке вопроса // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2017. № 8. С. 177–203.
- Руди и др. (2008) — Руди Т. Р., Афиногенов Д. Е. и др. Житийная литература // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19. С. 283–345.
- Рыженков (2022) — Рыженков А. Н., свящ. Чудо: исторический, литературный и богословский аспекты (по материалам русской агиографии XVII века): Дис. … канд. богосл. М.: [Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия], 2022. 187 с.
- Словарь русского языка (1975) — Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1975. Вып. 2. 314 с.
- Словарь русского языка (1990) — Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1990. Вып. 16. 295 с.
- Словарь русского языка (2008) — Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 2008. Вып. 28. 303 с.
- Словарь русского языка (2015) — Словарь русского языка XI–XVII вв. М.; СПб.: Нестор-История, 2015. Вып. 30. 320 с.
- Стародумов (2009) — Стародумов И. В. Жанровая специфика повествований о посмертных чудесах святых подвижников в составе древнерусской агиографии: Автореф. дис. … канд. фил. наук. Омск: [Омский гос. университет им. Ф. М. Достоевского], 2009. 20 с.
- Шмеман (2018) — Шмеман А., протопресв. Церковь и церковное устройство // Шмеман А., протопресв. Церковь и церковное устройство: Сб. статей. М., 2018. С. 24–83.