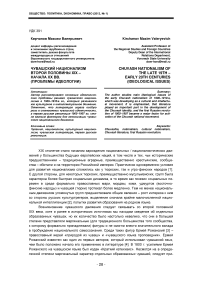Чувашский национализм второй половины XIX - начала ХХ вв. (проблемы идеологии)
Автор: Кирчанов Максим Валерьевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает основные идеологические проблемы раннего чувашского национализма в 1900-1910-е гг., который развивался как культурное и интеллектуальное движение. Отмечено, что литература играла особую роль в становлении чувашской идентичности, а первая русская революция 1905-1907 гг. стала важным фактором для активизации чувашского национального движения.
Чувашия, национализм, культурный национализм, чувашская литература, первая русская революция
Короткий адрес: https://sciup.org/14931452
IDR: 14931452 | УДК: 391
Текст научной статьи Чувашский национализм второй половины XIX - начала ХХ вв. (проблемы идеологии)
XIX столетие стало началом зарождения национальных / националистических движений у большинства будущих европейских наций, в том числе и тех, чьи исторические предшественники – традиционные аграрные, преимущественно крестьянские, сообщества – обитали и на территории Российской империи. Практически одновременно условия для развития национализма сложились как у тюркских, так и угро-финских народов [1]. С другой стороны, для некоторых тюркских, преимущественно мусульманских, групп была характерна более быстрая социальная динамика, в то время как генезис социальных перемен в среде формально православных мари, мордвы, коми, удмуртов (восточнофинские народы) и чувашей (тюрки) протекал более медленно. Тем не менее национальным движениям упомянутых групп предшествовали общие явления – рост интереса к ним со стороны русских культуртрегеров, выделение сначала крайне малочисленной национальной интеллигенции [2], попытки развития образования на родном языке.
Возникновение чувашского движения следует связывать со второй половиной XIX века, хотя и ранее в исторических источниках мы находим сведения об отдельных образованных чувашах, но их количество было настолько невелико, что они в большей степени представляли маргинальные (для традиционного большинства того сообщества, к которому формально принадлежали) фигуры и не смогли внести значительного вклада в пробуждение национального самосознания. Среди таких фигур Ермей Рожанский [3] – православный иерей «природой из чуваш» и «чувашского языка проповедник». Ермей Рожанский известен как один из первых авторов, который использовал чувашский язык, чем было положено начало его применению в литературе [4]. В 1800 г. усилиями Ермея Рожанского на чувашском языке был издан «Краткий катехизис». Несмотря на в определенной степени маргинальный характер отдельных образованных чувашей, следует при- нять во внимание, что именно их деятельность привела к появлению предпосылок для развития чувашского национализма.
Важным фактором в развитии чувашского национального движения стала Симбирская чувашская школа, основанная И. Яковлевым в 1868 г. [5], который получил поддержку от некоторых российских ученых, которые занимались изучением чувашской проблематики. В 1871 г. И. Яковлев выпустил чувашский букварь, чем было положено начало современной чувашской письменности [6]. Симбирская чувашская школа и некоторые другие учебные заведения региона (например, Казани [7]) сыграли центральную роль в формировании национальной интеллигенции. Открытию чувашских школ способствовал успешный опыт введения образования на татарском языке, чем, в частности, занимался И. Ильминский. Среди исследователей-чувашей и защитников чувашского образования (в различное время) были российские востоковеды В.К. Магницкий [8], Н. Ильминский, Н.В. Никольский [9] и Н. Ашмарин. В целом росту интереса к чувашам, а в дальнейшем - появлению новой чувашской идентичности способствовали и русские исследования, посвященные «инородцам», которые не только «музеифицировали» нерусские народы, но и содействовали появлению своеобразной воображаемой географии нерусского населения. Несмотря на разнообразие позиций русских авторов, ими был сформирован корпус разнообразных как по качеству, так и содержанию текстов, которые в определенной степени сыграли культуртрегерскую роль в деле последующего чувашского национального возрождения.
Развивая чувашскую школу, И. Яковлев [10] стремился не только приобщить чуваш к христианству, но и создать чувашский литературный язык и письменность, ознакомить русский народ с жизнью и бытом чуваш. С другой стороны, попытки создать школы с преподаванием на чувашском языке встречали различные гонения, сталкиваясь с самым негативным отношением со стороны Русской православной церкви, представители которой, например архиепископ Никандр, обвиняли чувашских деятелей в сепаратизме. Обучая чувашей в Симбирске, И. Яковлев планировал некоторых наиболее одаренных отправлять на обучение в Европу, чтобы по возвращении они применяли свои знания на благо чувашского народа. Особое место в деятельности школы занимали переводы с русского языка на чувашский, которые содействовали качественно новым тенденциям в развитии чувашской культуры, ее постепенной трансформации, усилению европейского влияния, что в итоге привело (наряду с другими факторами) к интеллектуальному и культурному расцвету чувашского национализма в 1920-е гг.
Важным фактором в развитии чувашского национализма, как и национализма других народов Российской империи, стала революция 1905- 1907 гг., которая создала условия как для активизации националистов, так и для появления качественно новых форм деятельности националистически ориентированной чувашской интеллигенции. Такой формой стало издание первой национальной чувашской газеты «Хыпар» [11], которая выходила с января 1906 по май 1907 гг. в Казани. Инициатором издания газеты выступил Н.В. Никольский [12]. Политическая программа газеты характеризовалась национальнодемократической направленностью. Особое внимание уделялось проблемам национальной консолидации чувашей, поэтому редакторы призывали потенциальных авторов писать «таким языком, который был бы понятен для всех чувашей» [13]. Авторы газеты «Хыпар» [14], нередко обращаясь к опыту Великой французской буржуазной революции [15], писали, что революция расколола Россию на две части - Россию «многострадальных угнетенных народов» и Россию «казаков, черносотенцев, полицейских, стражников, жандармов» [16]. «Хыпар» писал о необходимости общей демократизации Российской империи («Россия патшалăхĕнчи тĕрлĕ халăхсене, темиçе тĕрлĕ пурăнакансене пурне те пĕр пек право хал пултăр, пĕр халăхин право нумайтарах, тепĕрин сахалтарах ан пултăр»
[17] – «Разным народам Российского государства, исповедующим разную веру, предоставить равные права, покончить с тем, что одни народы пользовались большими правами, а другие – ограниченными правами»), предоставлении народам России права обучения на родном языке («кирек кама та ашшĕ-амăшĕ калаçакан чĕлхепе школара çырăва вĕренме чару ан пултăр» [18] – «никому не должно быть запрета в школах на обучение на родном языке»), введения принципов равенства в суде («суд умĕнче кирек епле çын та» [19] – «перед судом все должны быть равны»).
Немаловажное значение для развития чувашского национализма в начале ХХ в. имела деятельность русских исследователей, которые занимались изучением чувашского языка и народной культуры, чем закладывали фундамент для дальнейшего развития гуманитарных исследований в Чувашии. Среди ведущих российских специалистов по чувашской проблематике в начале ХХ столетия особое место занимал Н.И. Ашмарин – исследователь чувашского языка, народной традиционной чувашской культуры. Именно Н.И. Ашмарин был среди тех исследователей, которые заложили основы теории булгарочувашского континуитета [20], позднее получившей широкое распространение среди чувашских интеллектуалов. Деятельность Н.И. Ашмарина [21] и других российских исследователей, которые сочувствовали угнетенному и неравноправному положению чувашей в Российской империи, в определенной степени содействовала как росту интереса к чувашской проблематике, так и постепенному (правда, чрезвычайно незначительному и медленному) осознанию российским обществом необходимости пересмотра принципов национальной политики, основанной на дискриминации, угнетении, подавлении и неравноправии по языковому, национальному и религиозному признакам.
В начале ХХ в. чувашское национальное движение переживало некий подъем, который выражался в расцвете чувашской романтической поэзии [22], культурной и литературной активности чувашских националистически ориентированных авторов, многие из которых себя не осознавали националистами, но стали таковыми в советской историографии, которая фактически представляла одну из версий социального конструктивизма. Рост чувашского национализма был связан с активизацией чувашской интеллигенции [23], формирование которой протекало в крайне сложных условиях, тормозилось политикой российских властей и негативной социальной динамикой, связанной с отсутствием развитых традиций политического участия и государственного общества. С другой стороны, чувашская интеллигенция фактически не была в состоянии конкурировать с русской интеллигенцией [24], которая отличалась определенной активностью и, несмотря на наличие тенденций к собственной фрагментации по политическому признаку, все же содействовала русификации региона. Поэтому чувашский национализм в начале ХХ столетия мог развиваться как исключительно культурный, проявлялся почти исключительно в литературе [25] и был направлен на сохранение культуры и языка [26], борьбу против русификаторских тенденций и устремлений, которые исходили со стороны русского чиновничества и охранительно, монархически настроенной интеллигенции.
Среди ведущих фигур в чувашском культурном национализме начала ХХ в. играл Кестентин (Константин) Иванов – автор выдержанной в духе романтического национализма поэмы «Нарспи» [27], наполненной как чувашскими национальными мотивами, так и европейскими параллелями. В поэтическом дискурсе К. Иванова (в частности, в тексте «Хальхи самана» [28]), который пребывал преимущественно в рамках традиционной поэтики, сочетались как традиционалистские [29], так и модернистские настроения [30]. Первые были представлены ностальгическими образами старины, идеализацией чувашского крестьянского быта, вторые – осознанием необходимости и неизбежности социальных и культурных перемен, связанных с разрушением именно традиционности и характерной для нее социальной и территориальной замкнутости, ограниченности. В новых условиях, когда усилиями первых чувашских интеллектуалов-националистов предлагался концепт именно чувашской нации, осознавалась угроза и опасность русификации и татаризации, а универсальным центром культурного притяжения для чувашской интеллигенции становился Симбирск, на первое место в политической повестке дня национального движения выходят вопросы сохранения языка.
С другой стороны, особую роль продолжали играть и качественно иные культурные ориентиры, связанные с унаследованными от язычества образами (Хамаят, Киреметь), глубоко укоренившимися в чувашской национальной памяти. Поэтому чувашское культурное пространство в начале ХХ в. развивалось как гетерогенное, представленное одновременно сосуществовавшими культурами и традициями. Номинально православные чувашские интеллектуалы могли отражать в своих текстах языческие образы, связанные с верой в ведьм и необходимость совершения жертвоприношений. Пребывание в условиях городской культуры вместе с тем не мешало им идеализировать «старину», когда «жизнь была совсем иная, всем земли тогда хватало, много хлеба вырастало». В этом контексте заметна своеобразная трудовая этика, характерная для традиционной чувашской культуры, ориентированной на труд, на результат.
В целом в начале ХХ в. чувашское национальное движение достигло определенных результатов, но было не столь развито в отличие, например, от татарского, украинского или латышского. Тем не менее политические события, связанные с участием Российской империи в Первой мировой войне, Февральской революцией и Октябрьским переворотом, создали качественно иные условия для деятельности национальных движений, что существенно отразилось и на развитии чувашского национализма, в истории которого наступил новый этап.
Ссылки:
-
1. Калинин И.К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М., 2000.
-
2. Там же. С. 75–76.
-
3. Родионов В.Г. Новое о деятельности Ермея Рожанского // Актуальные проблемы чувашской литературы. Чебоксары, 1983. С. 157–178.
-
4. Его же. Ермей Рожанский. Пурнăçĕпе пултарулăхĕ. Жизнь и творчество. Шупашкар / Чебоксары, 2011.
-
5. Иванов А.И. Телеграмма В.И. Ленина о И.Я. Яковлеве // Вопросы истории, политического, экономического и
социально-культурного развития Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. С. 137–146.
-
6. Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии / ред. Н.Е. Егоров. Чебоксары, 1975. С. 175.
-
7. Гаврилова Л.М. Подготовка кадров интеллигенции Чувашии в учебных заведениях Казани во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Вопросы истории Чувашии периода капитализма. Чебоксары, 1986. С. 3–29.
-
8. Абашева Д.В. В.К. Магницкий. К 165-летию со дня рождения // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2004. № 1 (39). С. 184–189.
-
9. Димитриев В.Д. Николай Васильевич Никольский (очерк жизни и деятельности) // Вопросы историографии историко-этнографического изучения Чувашии. Чебоксары, 1981. С. 45–113.
-
10. Сироткин М.Я. Культура, просвещение, литература чувашского народа во второй половине XIX и начале ХХ вв. // История Чувашской АССР. Чебоксары, 1956. С. 260–286.
-
11. Петров Н.П. Наблюдения за лексикой первой чувашской газеты «Хыбар» // Чувашский язык, литература и фольклор. Чебоксары, 1973. Вып. 2. С. 330–363.
-
12. Димитриев В.Д. Н.В. Никольский – чувашский ученый, просветитель, общественный деятель. Чебоксары, 1993.
-
13. Хыпар. 1906. 16 мая.
-
14. Чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕ «Хыпар» 1906–2006. Аса илÿсем, документсем / хатĕр. А.П. Леонтьев, И.М. Матросов. Шупашкар, 2006.
-
15. Хыпар. 1907. 29 апр.
-
16. Хыпар. 1906. 1 окт.
-
17. Хыпар. 1906. 26 фев.
-
18. Там же.
-
19. Хыпар. 1906. 27 авг.
-
20. Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Чебоксары, 2012.
-
21. Хузангай А. Ашмаринский план всестороннего изучения чувашей // Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши.
-
22. Владимиров Е.В. Романтизм в дореволюционной чувашской литературе // Чувашский язык, литература и
фольклор. Чебоксары, 1974. Вып. 3. С. 330–352.
-
23. Гаврилова Л.М. Интеллигенция Чувашии в первой половине XIX века // Исследования по истории Чувашии дооктябрьского периода. Чебоксары, 1985. С. 31–52.
-
24. Ее же. Чиновничество и духовенство Чувашии в XIX – начале ХХ века // Вопросы истории Чувашии XIX – начала ХХ в. Чебоксары, 1988. С. 4–20.
-
25. Васильев А.В. Становление и развитие жанров в дореволюционной чувашской литературе XVIII–XIX вв. // Чувашская литература: тенденции развития, стилевые поиски. Чебоксары, 1983. С. 3–29.
-
26. Зотов И.А. На путях к реализму. К вопросу о художественном методе чувашской литературы второй половины XIX века // Актуальные проблемы чувашской литературы. Чебоксары, 1983. С. 51–73.
-
27. Иванов К. Нарспи / пер. с чув. П. Хузангая. Чебоксары, 2008.
-
28. Иванов К. Наш век (к 28 октября 1908 года) // Иванов К. Избранное (стихи, сказки, поэма) / пер. с чув. ; сост.
-
29. Иванов К. Железная мялка // Там же. С. 18–28.
-
30. Александров С. Поэтика Константина Иванова. Вопросы метода, жанра, стиля. Чебоксары, 1990.
Чебоксары, 2012. С. 137–143.
и прим. Я. Ухсай. М., 1979. С. 7–12.
Список литературы Чувашский национализм второй половины XIX - начала ХХ вв. (проблемы идеологии)
- Калинин И.К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М., 2000.
- Родионов В.Г. Новое о деятельности Ермея Рожанского//Актуальные проблемы чувашской литературы. Чебоксары, 1983. С. 157-178.
- Ермей Рожанский. Пурнарёпе пултарулахё. Жизнь и творчество. Шупашкар/Чебоксары, 2011.
- Иванов А.И. Телеграмма В.И. Ленина о И.Я. Яковлеве//Вопросы истории, политического, экономического и социально-культурного развития Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. С. 137-146.
- Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии/ред. Н.Е. Егоров. Чебоксары, 1975. С. 175.
- Гаврилова Л.М. Подготовка кадров интеллигенции Чувашии в учебных заведениях Казани во второй половине XIX -начале ХХ вв.//Вопросы истории Чувашии периода капитализма. Чебоксары, 1986. С. 3-29.
- Абашева Д.В. В.К. Магницкий. К 165-летию со дня рождения//Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2004. № 1 (39). С. 184-189.
- Димитриев В.Д. Николай Васильевич Никольский (очерк жизни и деятельности)//Вопросы историографии историко-этнографического изучения Чувашии. Чебоксары, 1981. С. 45-113.
- Сироткин М.Я. Культура, просвещение, литература чувашского народа во второй половине XIX и начале ХХ вв.//История Чувашской АССР. Чебоксары, 1956. С. 260-286.
- Петров Н.П. Наблюдения за лексикой первой чувашской газеты «Хыбар»//Чувашский язык, литература и фольклор. Чебоксары, 1973. Вып. 2. С. 330-363.
- Димитриев В.Д. Н.В. Никольский -чувашский ученый, просветитель, общественный деятель. Чебоксары, 1993.
- Хыпар. 1906. 16 мая.
- Чавашсен пёрремёш харачё «Хыпар» 1906-2006. Аса илусем, документсем/хатёр. А.П. Леонтьев, И.М. Матросов. Шупашкар, 2006.
- Хыпар. 1907. 29 апр.
- Хыпар. 1906. 1 окт.
- Хыпар. 1906. 26 фев.
- Хыпар. 1906. 27 авг.
- Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Чебоксары, 2012.
- Хузангай А. Ашмаринский план всестороннего изучения чувашей//Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Чебоксары, 2012. С. 137-143.
- Владимиров Е.В. Романтизм в дореволюционной чувашской литературе//Чувашский язык, литература и фольклор. Чебоксары, 1974. Вып. 3. С. 330-352.
- Гаврилова Л.М. Интеллигенция Чувашии в первой половине XIX века//Исследования по истории Чувашии дооктябрьского периода. Чебоксары, 1985. С. 31-52.
- Чиновничество и духовенство Чувашии в XIX -начале ХХ века//Вопросы истории Чувашии XIX -начала ХХ в. Чебоксары, 1988. С. 4-20.
- Васильев А.В. Становление и развитие жанров в дореволюционной чувашской литературе XVШ-XIX вв.//Чувашская литература: тенденции развития, стилевые поиски. Чебоксары, 1983. С. 3-29.
- Зотов И.А. На путях к реализму. К вопросу о художественном методе чувашской литературы второй половины XIX века//Актуальные проблемы чувашской литературы. Чебоксары, 1983. С. 51-73.
- Иванов К. Нарспи/пер. с чув. П. Хузангая. Чебоксары, 2008.
- Иванов К. Наш век (к 28 октября 1908 года)//Иванов К. Избранное (стихи, сказки, поэма)/пер. с чув.; сост. и прим. Я. Ухсай. М., 1979. С. 7-12.
- Александров С. Поэтика Константина Иванова. Вопросы метода, жанра, стиля. Чебоксары, 1990.