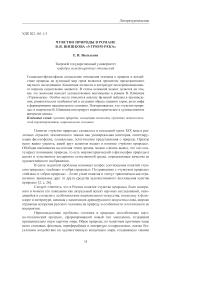Чувство природы в романе В. Я. Шишкова "Угрюм-река"
Автор: Васильева Елена Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Социально-философское осмысление отношения человека к природе и воздействие природы на духовный мир героя являются предметом представленного научного исследования. Концепция личности в литературе послереволюционного периода существенно меняется. В статье основной акцент делается на том, как эта эволюция находит художественное воплощение в романе В. Шишкова «Угрюм-река». Особое место отводится анализу функций пейзажа в произведении, романтических особенностей в создании образа главного героя, роли мифа в формировании национального сознания. Подчеркивается, что «чувство природы» в творчестве В. Шишкова интегрирует мировоззренческое и художественное авторские начала.
Чувство природы, концепция личности, средство психологической характеристики, национальное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/146121916
IDR: 146121916 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Чувство природы в романе В. Я. Шишкова "Угрюм-река"
Понятие «чувство природы» сложилось в последней трети ХIХ века в различных отраслях человеческого знания как универсальная категория, синтезирующая философские, социальные, эстетические представления о природе. Прежде всего важно уяснить, какой круг аспектов входит в понятие «чувство природы». Обобщая имеющиеся на сегодня точки зрения, можно сделать вывод, что оно синтезирует понимание природы, то есть мировоззренческий («философия природы») аспект и чувственное восприятие естественной среды, определяющее качества ее художественного изображения.
В свете поднятой проблемы возникает вопрос соотношения понятий «чувство природы», «пейзаж» и «образ природы». По сравнению с «чувством природы» «пейзаж» и «образ природы» – более узкие понятия и «могут трактоваться как ограниченно зависимые друг от друга средства художественного воплощения чувства природы» [2, с. 26].
Следует отметить, что в России понятие «чувство природы» было воспринято в момент его появления как актуальный аспект научных исследований, находящийся в согласии с особенностями национального искусства, поскольку в фольклоре и литературе, начиная с памятников древнерусского искусства слова, широко отражены воззрения русского человека на природу и особенности эстетического ее восприятия.
Переосмыслению проблемы «человек и природа» способствовал научно-технический прогресс, сформировавший новый тип мышления, создавший принципиально иную картину мира. Образ природы, по понятным причинам чаще всего становясь фоновым, периферийным в литературе «соцреализма», оказал безусловное воздействие на художественную концепцию мира, создаваемую такими разными художниками, как М. Шолохов, Л. Леонов, К. Паустовский, М. Пришвин, И. С. Соколов-Микитов, В. Шишков, Н. Заболоцкий, новокрестьянские поэты и др. Писатели вновь обратились к макрокосму природы, рассматривая человека как его часть. Это было своего рода попыткой возвращения к духовному смыслу природного начала в жизни народа, восстановления распавшейся «связи времен». Г. Д. Гачев в книге «Национальные образы мира» пишет: «Первое, оче-видное, что определяет лицо народа, – это природа, среди которой он вырастает и совершает свою историю. Она – фактор постоянно действующий» [1, c. 47].
Литература послереволюционного периода (когда и создается роман В. Я. Шишкова) активно ищет нового героя, способного отразить дух времени. В социально-философской сфере новая концепция личности нашла свое отражение в теории Ф. Ницше, сформулировавшего идею нового биологического типа – «белокурого животного», для которого нет иных законов, кроме удовлетворенности жизнью и спокойного использования прирожденных сил. Пришел «новый человек», не готовый подчиниться «власти строгих законов природы» (Бюхнер) и создавший новый образ природы как «мастерской». Естественный ход жизни прерывается, жестоко, «по-человечески» попираются законы, обеспечивающие гармонию в природе. Природа и человек находятся в состоянии конфликта.
Так, основным конфликтом романа В. Я. Шишкова «Угрюм-река» является столкновение Прохора Громова с непокорной природой: тайгой, рекой. «Картина была привольна, дика , величественна», – не раз подчеркивается в произведении. (Здесь и далее курсив в цитатах везде мой. – Е. В.) «Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе – нечто дикое, коварное…» [5, т. 1, с. 59]. Река и Прохор Громов неразделимы: «И стали в душе Прохора два противоборствующих мира, как два разъятых Угрюм-рекою берега» [5, т. 2, с. 472]. В начале произведения герой, отправляясь в путешествие по реке, оставляет принятие решения за природой: «Давай загадаем, Ибрагим! Если завтра солнышко будет – поплывем. А нет, назад вернемся» [5, т. 1, с. 73]. В данном эпизоде голос автора «сливается» со словами старца Никиты Сунгалова, который понимает, что Прохору надо жить в согласии с природой, слиться с ней в один поток: «Плывите, не страшитесь, реку не кляните, она вас выведет. Река – что жизнь…» [Там же, с. 77]. По глубокому убеждению писателя, соединенный с миром природы человек может обнаружить собственный вдохновляющий потенциал, могучие возможности. Но Прохор и Угрюм-река бросают друг другу вызов: «Прохору опять вспомнился свой первый путь, безвестность, страхи, та гибельная ночь в снегах… Вот у него уже борода растет, безумная юность откатилась, истоки пройдены, впереди – темная Угрюм-река с убойными камнями, впереди – вся жизнь. Но ему ли бояться Угрюм-реки? Нет! Он пройдет жизнь играючи, тяжелой каменной ногой, он оживит весь край, облагодетельствует тысячи народу…» [Там же, с. 221]. Здесь заявлен один из основных мотивов романа – мотив игры: игры с природой, с людьми, с жизнью. Причем Прохор не только подменяет понятия, он жизнь ассоциирует с игрой на грани фола. В приведенном отрывке обращают на себя внимание и некоторые детали. Например, Прохор мечтает пройтись по жизни «каменной ногой». Далее в романе многократно будет появляться образ камня (скалы, булыжника), который олицетворяет препятствие, преграду. Камень, как правило, противопоставлен жизни как неживое, холодное, бездушное начало. А Прохор каменной ногой хочет оживить край. Заявленная антитеза уже в начале романа говорит о невозможности осуществления замысла героя. Так на уровне подтекста реализуется авторское отношение к подобным идеям.
По ходу развития сюжета в романе все чаще звучат мотивы недостигнуто-сти взаимопонимания между человеком и природой. Шишков рисует картины отчуждения героя от природного мира. Структурно разрыва нет: мы все чаще видим человека в тайге. Но дело, которым он занят: кровавая охота на зверей, истребление леса, проникновение в недра природы с целью обогащения – становится причиной их этического разъединения, внутренней враждебности. Разлад становится сокрушительным для обеих сторон: человек насилует природу, она отвечает ему пожарами, бурями. На первый план выходит то, что разделяет. Природа встречает человека как противника. В Прохоре Громове – главном герое романа, отделенном от природы, – побеждают злые, ущербные силы, усиливается внутренний разлад.
Тень разочарования, утраченной веры и несостоявшегося будущего ложится и на образ природы. Она все больше лишается своего материального содержания и значения, отделяется от реальной жизни людей. Ей все чаще придается метафизический смысл. Человек-хозяин ставит перед собой цель покорить своенравную реку, которая является живым организмом, связанным с человеком и жизнью. Автор не раз акцентирует внимание на том, что Угрюм-река «все равно как человечья жизнь: поди пойми ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь как жизнь людская» [Там же, с. 60]. В одном из писем Шишков подчеркивает: «Угрюм-река не просто река, – нет такой “Угрюм-реки” – есть Жизнь. Так и надо читать» (цит. по: [3, c. 235]). Образ природы, являясь в романе самостоятельным, реалистически выписанным, в то же время наделяется и символическим значением, что видно уже из названия. Пейзаж становится средством выражения мировоззрения Шишкова. Образ природы в романе наполняется глубоким философским подтекстом, становится объектом авторского исследования, ориентированным на различные литературные традиции.
Творчество Шишкова, являясь в целом реалистическим, отчетливо тяготеет к романтизму, поэтому из возможных жизненных ситуаций автор склонен выбирать наиболее острые, крайние, что свидетельствует о скрытых в его произведениях романтических тенденциях. Шишков создает образный ряд, в котором действуют сильные животные (медведь, орел и др.), сила жизни в них понимается как черта самоутверждения. Кроме того, отчасти и в главном герое просматриваются романтические черты: «Я всегда противопоставлял себя миру» [5, т. 2, с. 499]; «Я ненавижу мир, и мир, есть болото, спячка, взаимно ненавидит меня» [Там же, с. 328]. В данном контексте интересно обратиться к характеристике Прохора Громова, которую дает почуйский священник. Узнав от Прохора цель его приезда на реку Большой поток, батюшка замечает: «А-а… Так-так… То есть тунгусов грабить надумали с отцом? Дело. Пьешь? Нет? А будешь. По роже вижу, что будешь… Примечательная рожа у тебя, молодец… Орленок! И нос как у орла, и глаза…» [5, т. 1, с. 26]. На протяжении всего романа Шишков не раз показывает внешнее сходство героя с птицей. На первый план выходит образ гордого, смелого, сильного человека, то есть реализуется переносное значение слова орел. Однако, с другой стороны, возникает значение «хищная сильная птица». Как видим, наряду с положительной коннотацией героя возникает негативное значение «хищник». Вся судьба Прохора Громова – это не только его борьба с рекой-жизнью, но и борьба в герое двух начал: сильной личности, способной бросить вызов природе, и жестокого хищника, стремящегося любой ценой подчинить себе мир. Отсюда важным элементом характеристики героя является сопоставление его с волком – хищником в природе, олицетворяющим жестокость и хитрость. О себе Прохор не без гордости думает, что он «двуногий волк с звериными клыками, с мертвой хваткой, гениальностью смелого дельца» [Там же, с. 382]. Не случайно его домашним животным является волк, хищный зверь, всегда готовый растерзать человека. Но в романе дикий зверь изображается более гуманным существом по сравнению с человеком новой эпохи. Выразительна сцена безжалостного избиения волка Прохором Громовым: «Прохор накинул на его шею парфорс-удавку… Из шкуры зверя клочьями летела шерсть. Зверь рычал, выл, хрипел…» [5, т. 2, с. 382]. Несмотря на жестокость Прохора, волк остается единственным преданным ему существом, верным до его последнего часа. Когда «жизнь человека пресеклась» и Громова не стало, единственным, кто оплакивал его, был волк: «Выл осиротевший волк» [Там же, с. 527]. Образы животных и отношение к ним героев приобретают в романе самостоятельное значение. Волк в свете описанных событий олицетворяет верность и сострадание, что было неизвестно его хозяину.
Новый человек изображается как «делец», хищник «с мертвой хваткой» по отношению к природе. Он без какой-либо мотивации грабит природные богатства, варварски истребляет животных, стремится «обуздать» природу, возвыситься над ней. История человечества не раз доказывала, что это невозможно. «Перед нами стихии, которые будто насмешничают над любым принуждением со стороны человека, – писал Фрейд в «Будущем одной иллюзии», – земля, которая сотрясается, разверзается, погребает и человека, и все творения; вода, мятежно заливающая и затапливающая все кругом; буря, все сметающая на своем пути, болезни, которые мы лишь с недавних пор опознали как нападение других существ, и, наконец, мучительная загадка смерти, от которой до сих пор не найдено никакого зелья. Могучая природа, жестокая, неумолимая, встает в нас этими силами и снова наглядно показывает нам нашу слабость и беспомощность, от которой мы думали спастись культурной деятельностью» [4, с. 490]. Люди не должны заблуждаться в том, что природа покорена или когда-либо будет полностью подчинена, – «это лишь иллюзорная видимость, ловкий обман наших чувств» [5, т. 2, с. 184]. В понимании Шишкова, эта тенденция опасна прежде всего для самого человека. Достаточно вспомнить судьбу Прохора Громова. В молодости он ставит перед собой цель: «Угрюм-река! Здравствуй!.. Я твой хозяин ! Погоди, пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты начнешь крутить колеса моих машин. А захочу, прикажу тебе течь не здесь, а там. Потому что Прохор Громов сильней тебя! [5, т. 1, с. 208]. В конце жизни он строит башню на берегу Угрюм-реки, которая должна была демонстрировать власть человека над природой. Роман заканчивается гибелью героя, так и не ставшего хозяином природы. Знаменательна последняя фраза романа: «Угрюм-река – жизнь, сделав крутой поворот от скалы с пошатнувшейся башней ничтожества [которая должна была стать символом победы над природой. – Е. В.], текла к началу начал, к Океану времен, в беспредельность» [5, т. 2, с. 527]. Мотив времени становится в романе определяющим, постепенно утрачивая свое конкретное значения, он переходит в философскую плоскость: «Нет в пространстве ни столетий, ни тысячелетий» [5, т. 1, с. 205]. Писатель был глубоко убежден в том, что природа сумеет противостоять натиску и насилию человека, так как она (природа) вневременная – вечная – категория: «Вы только взгляните на мир умным взором: всюду жизнь, движение, творчество. И так до конца концов, которому нет ни конца, ни начала» [5, т. 2, с. 184].
Природа не сдается и борется за жизнь: «Стада зверей, остатки неулетевших птиц, извивные кольца скользких гадов – вся тварь трагически обречена сожжению. В еще не тронутой полосе, длиною верст двадцать и шириною не более версты, как в пекле: воздух быстро накалялся, и резко слышался гудящий гул пожара, свист вихрей, взрывы, стон обиженной земли. А красное небо, готовое придавить тайгу, тряслось. От звуков, от дыма, от вида небес звери шалели…» [Там же, с. 183]. Шишков сумел передать весь драматизм, всю трагедию сложившейся ситуации. Автор находит емкие образные средства, передающие не только атмосферу воцарившегося ужаса, но и собственное авторское отношение к происходящему.
В природе, мире происходит что-то необъяснимое. Люди ожидают чего-то рокового, неизбежного: «В пышный дом Громовых вдвинулся страх. Как холодный угар, зеленоватый, струящийся, он разместился по углам, пронзил всю атмосферу жизни. Страх лег в сердце каждого» [Там же, с. 470]. В романе «Угрюм-река» страх становится важнейшей категорией. Онтологический страх передается через обостренное чувство расплаты за неверные поступки. Мотив ожидания, боязни будущего является структурообразующим во второй части романа. В природе ощущается предчувствие беды, некого апокалипсиса: «Волк часто задирал башку и выл. Волк выл жутко и отчаянно. Из кухни стаями поползли во двор черные тараканы, из кладовки пропали мыши и крысы, как перед пожаром. Сбесился бык, запорол трех коров, ранил двух пьяных стражников и кучера» [Там же]. Природа, таким образом, становится не только фоном, на котором динамично развиваются события, а самостоятельным персонажем.
Кроме того, пейзаж в романе «Угрюм-река» служит средством психологической характеристики героя. Все чувства, события жизни Прохора Громова сопровождаются знаками природы. Героя часто одолевает странное предчувствие, и тогда природа сливается с ним в одно целое: «Тучи надвигаются над башней. Тучи надвинулись на Прохора – скоро-скоро он перекочует в свой теплый кабинет, в остывший дом, ближе к ледяному сердцу Нины. Угрюм-река по всему ее пространству в минувшую ночь сковало прочным льдом. Холодно кругом. Сердцу Прохора тоже неимоверно зябко: какое-то странное предчувствие гнетет его» [Там же, с. 86]. Образы льда, сковавшего реку, холода трансформируются и приобретают в романе метафорическое значение.
Необходимо выделить еще одну особенность пейзажа Шишкова: картины природы лишены статичности, природа в изображении автора живет, движется, изменяется: «Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода сверкающей, гладкой без взмывов массой. Образовав саженный водопад, она с грохотом мчалась дальше, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчащие из воды камни. Вода кипела, злилась, грохот и рев стояли неописуемые» [5, т. 1, с. 83]. Или: «Лишь слышно было, как скрежетала зубами пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила наземь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, черный чотт свистал свою любимую, седобородый мороз кряхтел…» [Там же, с. 107]. Природное пространство, на котором разворачиваются события, необычайно активно: «В ее [реке] природе нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбается она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: “Плывите, дорогие гости, добрый путь!” – и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, неожиданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватит шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком» [Там же, с. 59–60].
Одна из главных функций пейзажа у Шишкова, на наш взгляд, – философско-эстетическая. Красота природы, по мысли писателя, – одно из самых ярких проявлений тайны мира, самая естественная и гармоничная форма жизни: «Весна шла с неба. Солнце сбросило с себя ледяную кору и зажгло на своих гранях пламенные костры. Земля раскинулась во весь свой рост, подставила грудь солнцу и недвижимо ожидала часа своего, как под саваном заживо погребенный. Восстань, земля, проснись!» [Там же, с. 173–174]. В романе природа выступает как вечно творящее живое начало. Весной все просыпается к жизни: «В эту теплую темную ночь в весеннем воскресшем мире все купалось в любви. Любовь распускала почки деревьев, сеяла по лугам цветы, одевала травами землю. Теплые плодоносные ветры укрывали весь простор любовной тьмой – целуйтесь, любите! – и сами целовали мир нежно и тихо от былинки, от тли, до кедра, до каменных скал… Целуйтесь, любите, славьте Начало!.. Людие! Славьте природу, любите землю, любите жизнь!!» [Там же, с. 188–189]. Пейзаж в «Угрюм-реке» играет важную роль в выражении авторского сознания. Голос писателя звучит здесь отчетливо и преобладает над всеми остальными представлениями о природе, обозначенными в произведении.
Также в романе Шишкова пейзаж отражает мировоззрение коренных жителей тайги и степей – русских, тунгусов, киргизов, калмыков. Он передает психологию, представления об окружающем мире человека, близкого к природе, часто живущего с ней одной жизнью, человека с наивным сознанием, но мудрым сердцем, для которого природа – живое существо. Характерно в этом смысле отношение к ней Ибрагима-Оглы: «Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул» [Там же, с. 80]. Или: «Какой хитрый! – сказал Ибрагим, бросив весла: шитик самоплавом подался вниз. – Кто хитрый? – Вода!.. Маленькая вода, гляди, какой большущий стал: большой вода совсем вчера дурак. Поди узнай…» [Там же, с. 81]. Стихия воды воспринимается героем как отрицательное и опасное начало, одухотворенное и наделенное сверхсилой, угрожающей человеку.
Г. Д. Гачев обращает особое внимание на роль мифа в формировании национального сознания, устанавливая прямую зависимость между ними. «Чтобы доискаться национального, надо погружаться в древность, “доисторическую” эпоху народов, жизнь национального в последующие века есть сохранение “завета”» [1, с. 48]. Именно поэтому мифопоэтическая составляющая сознания отдельных героев Шишкова оказывается в центре внимания писателя. Следовательно, воплощению философии природы в романе «Угрюм-река» способствует и обращение автора к многочисленным сказаниям и преданиям сибирских народностей, где находят отражение древние представления о месте человека в природе.
В. Шишков был сосредоточен на социально-философском осмыслении отношений человека к природе и воздействия природы на духовный мир. Ключом к пониманию позиции писателя в этой проблеме является его философское понимание места природы в земном мире: он признает природу основополагающим явлением для всего живого на Земле, не исключая и человека, определяющим их жизнь от рождения до смерти. Природа для Шишкова – могучий организм, в котором все целесообразно и прочно. Он понимал природу как закономерное порождение жизни Космоса, был уверен, что она вобрала в себя запасы прочности и долговременности космического мира: «И так – из жизни в жизнь, от наследия гробов, через смерть, через тьму, из солнца в солнце, чрез океан времен – передается бытие по безначальному кругу вечности» [5, т. 1, с. 188]. По существу, формируется мифологема вечности. В этом ряду воспринимается и идущее от гегелевского пантеизма противопоставление жизни природы как вечной, неизменной, божественной и жизни человеческой, преходящей, во многом зависящей от случая.
Таким образом, «чувство природы» в творчестве В. Я. Шишкова интегрирует мировоззренческое и художественное авторские начала и является важнейшим звеном художественного мира писателя, во многом определяющим его своеобразие. Картины природы в различных ее проявлениях отражают особенности мировосприятия В. Шишкова.
Список литературы Чувство природы в романе В. Я. Шишкова "Угрюм-река"
- Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. М.: Сов. писатель, 1988. 396 с.
- Гурленова Л. В. Чувство природы в русской прозе 1920-1930-х годах: дис. … докт. филол. наук: 10.01.01/Л. В. Гурленова; Сыктывкарский гос. ун-т. Сыктывкар, 1998. 389 с.
- Селедцов О. Нарушение закона (Философия романа «Угрюм-река»)//Молодая гвардия. 1995. № 8. С. 229-235.
- Фрейд З. Психоаналитические этюды. Мн.: Попурри, 1997. 606 с.
- Шишков В. Я. Угрюм-река: в 2 т. М.: Обновление, 1993.