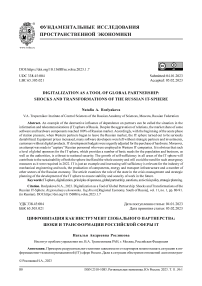Цифровизация как инструмент глобального партнерства: шоки и трансформации российской сферы IT
Автор: Рослякова Наталья Андреевна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 1 т.11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Примером разрушительного влияния зависимости от партнеров можно назвать ситуацию в информационно-телекоммуникационной (IT) сфере России. Даже в ситуации обострения отношений доля иностранных компаний в поставках как программного обеспечения, так и аппаратных средств по отдельным элементам достигала 100 %. Соответственно, с началом острой фазы санкционного давления, когда западные партнеры стали уходить с российского рынка, отрасль серьезно дестабилизировалась. Выросли цены на оборудование, многие разработчики остались без стратегических партнеров и инвестиций, клиенты - без цифровых продуктов. Бюджеты на развитие IT были срочно скорректированы для закупки запасов аппаратных средств. Более того, была произведена попытка «захвата» и российских кадров, которые были заняты в западных IT-компаниях. Очевидно, что подобный уровень глобальной открытости для отрасли IT, которая обеспечивает ряд базовых потребностей как населения и бизнеса, так и власти, является угрозой национальной безопасности. Рост самодостаточности во всех сферах IT-комплекса будет способствовать устойчивости отрасли и позволит избежать необходимости таких экстренных мер, какие потребовались в 2022 году. IT является лишь примером, и повышение самодостаточности актуально для комплекса машиностроения и приборостроения, производства комплектующих, энергетической и транспортной инфраструктуры и ряда других секторов экономики России. В статье рассматривается роль государства в процессе антикризисного управления и стратегического планирования развития сектора IT для обеспечения стабильности и безопасности работы в будущем.
It-сфера, цифровизация, принципы открытости, глобальное партнерство, санкции, антикризисная политика, стратегическое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149142396
IDR: 149142396 | УДК: 338.45:004 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.1.7
Текст научной статьи Цифровизация как инструмент глобального партнерства: шоки и трансформации российской сферы IT
DOI:
Долгое время в мире развивались принципы открытости и партнерства, к главным достоинствам которых относили обеспечение стабильности для отраслей и регионов. Однако сложившиеся за десятилетия принципы в настоящее время переживают серьезный кризис, так как не повышают, а, напротив, снижают устойчивость процессов. Санкции, запущенные после начала проведения специальной военной операции (далее – СВО), привели к скачкообразному росту давления на Россию, а высокий уровень открытости и взаимозависимости стали факторами для усиления этого давления в отдельных областях. Действуя широким фронтом, недавние зарубежные «партнеры» пытались выключить целые сектора российской экономики [Тимофеев, 2022].
Наиболее характерным симптомом того, что глобальное общество вошло в полосу радикальных и болезненных трансформаций, явилась утрата принципов и систем коллективной коммуникации, что блокирует возможность достижения и реализации каких-либо договоренностей на международном уровне. Ярким примером является нарушение принципов долгосрочной контрактации на продовольственном, агрохимическом, металлургическом, угольном, газовом, нефтяном рынках, которые возникли в 2022 году. В условиях высокой степени взаимозависимости, которая выстраивалась десятилетиями, происходит обострение противоречий и резкое ухудшение геополитической и экономической обстановки (беспрецедентный рост цен, вызванный наращивани- ем контрпродуктивных для всех сторон санкций, уже назван «налогом Путина» [Байден заявил ... , 2022]). Примеры показывают, что возможность диалога разрушилась как в социогуманитарной сфере, так и в сугубо экономической плоскости международного процесса. Подобное положение дел характерно для всего мира и Россия здесь не является исключением. Стоит вспомнить санкции США против Китая [Черкесов, 2022], санкционное давление на Иран [Коноплянко, 2022] и Северную Корею [Россия и Китай ... , 2022].
Провал институтов глобальной безопасности в самую острую фазу пандемии коронавируса в 2020–2021 гг. является ярким признаком развития процессов, которые сейчас продемонстрировали обострение. С одной стороны, продолжительное время мир конструировал институты развития, достижения равенства, безопасности и справедливости, такие как Организация Объединенных Наций (далее – ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эта работа привела в 2015 г. к утверждению Целей устойчивого развития ООН (далее – ЦУР). С другой стороны, при развитии пандемии коронавируса эти цели были провалены, поскольку вакцина так и не стала инновацией открытого доступа. В результате возобладали прагматические тенденции, и в Африке, на самом бедном континенте мира, стоимость вакцины оказалась самой большой. По мнению Р. Махараджи, это является вакцинным апартеидом [Maharajah, 2021]. Сегодня уровень иммунизации в странах Африки составляет менее 19 на 100 чел. населения, а для таких крупных стран, как Конго, Нигер, Мали, данный показатель находится на уровне 5 на 100 чел. населения.
Для всего остального мира характерна принципиально иная ситуация: уровень иммунизации составляет свыше 60 % (исключение составляют лишь несколько стран – Афганистан, Сирия, Ирак, Папуа – Новая Гвинея и Йемен) [WHO Coronavirus ... , 2023]. Справедливо мнение Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе В. Чижова о том, что пандемия предоставила исторический шанс консолидироваться и дать коллективный отпор общей беде. Однако вместо этого была спровоцирована гонка вакцин [Самодостаточность и кооперация ... , 2022].
Пандемия продемонстрировала, что идеи неравенства людей, наций и их интересов между собой никуда не исчезли. Они продолжают культивироваться развитыми странами только в неявном виде и маскируются институтами вроде ЦУР. Последние являются элементом, который консервирует сложившиеся системы отношений, но не способствуют их развитию и трансформации.
В экономической плоскости также культивируется принцип базового неравенства. Наиболее яркой иллюстрацией является концепция углеродного следа, когда ключевые страны-поставщики энергоресурсов обеспечивают базовые условия для развития стран-потребителей, не обеспеченных в достаточном количестве энергоресурсами, и при этом оказываются «виновными» в порче экологии и должны возместить ущерб странам, которые энергию расходуют.
Естественным образом встает вопрос: этот провал институтов произошел из-за их несоответствия проблеме, или же такие проблемы не могут быть решены в условиях современного институционализма и для этого необходимы принципиально иные методы организации.
Новые реалии партнерства на глобальном уровне
Существующая глобальная система разделения труда и организации хозяйствования продолжительное время накапливала проблемы. Общепризнано, что западные развитые страны (под ними понимаются в первую очередь США и крупнейшие страны Европы: Великобритания, Франция, Германия) формируют свой потенциал и обеспечивают рост экономики за счет извлечения ресурсов (человеческих и физических) из развивающихся стран. Большую популярность получили книги Э. Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» [Райнерт, 2011] и Х.-Дж. Чанга «Как устроена экономика» [Чанг, 2015], объясняющие природу и противоречия сложившейся системы. В научной мысли это оформилось в понятия устойчивых дефицитов производительности и неравновесных состояний, восходящие к идеям Дж.М. Кейнса [Кейнс, 1978]. Лишение одних стран потенциала развития в пользу других порождает рост глобального неравенства. Накопление этих проблем является почвой для глобальных социальных и экономических потрясений [Рослякова, Новиков, 2019].
В таких условиях принципы открытости ведут к деструктивным результатам. Здесь можно привести позицию Литвы по вопросам транзита для Калининградской области. Во-первых, блокировка снабжения – это нарушение международных соглашений, что является свидетельством деградации принципов международных договоров, о чем речь шла выше. Во-вторых, Еврокомиссия обозначила свою готовность организовать транспортный коридор, но власти Литвы выступили против этого решения [Черненко, 2022]. То есть имеет место ситуация, когда утрачены возможности для достижения консенсуса даже в рамках союзов единомышленников, усиливается противоборство сил внутри систем и на передний план выходят недемократические принципы принятия решений. Институционализация этих процессов также показывает фундаментальную приемлемость такого способа решения вопросов даже в рамках партнерских отношений и, соответственно, дезавуирует коллегиальный принцип управления.
Сложилась ситуация, когда и оппоненты, и партнеры в экономической и гуманитарной сферах не имеют возможности понимать друг друга, вырабатывать и реализовывать какие-либо совместные решения. В пределе же лежит усиление процессов суверенизации интересов развивающихся стран и нежелание развитых стран видеть и учитывать эти интересы. Западные страны наращивают реакцию (в смысле подавления любого инакомыслия) в виде санкций, а развивающиеся страны активно осознают противоречия и ограничения, связанные с передачей прав суверена силам, находящимся вне собственных стран. Это свидетельствует о готовности развивающихся стран отказаться от Европы и США в роли глобального наставника, что, однако, вызывает ожесточенное сопротивление со стороны последних, поскольку на протяжении десятилетий эта система складывалась, чтобы обеспечить получение разноплановых выгод для них (см. выше). Соответственно, существует определенный саботаж обсуждения новой архитектуры мира, трансформации систем отношений, когда интересы каждого государства могли бы быть учтены и включены в повестку разрабатываемых решений.
Нельзя не согласиться, что коллизия между партнерством и самодостаточностью носит диалектический характер [Миллер, Лукьянов, 2016]. Очевидно, что международное партнерство – это целесообразная и эффективная деятельность, однако естественной основой для его реализации является самодостаточность стран, поэтому сейчас в мире остро стоит вопрос о выработке понимания, в каких хозяйственно-экономических условиях и с использованием каких форм хозяйственно-экономического взаимодействия возможно было бы разрешить это противоречие.
В этом контексте процесс цифровизации в России и рынок IT, связанный с ним, стал ярким примером разрушения принципов партнерских отношений и логики экономической целесообразности. Кроме того, он продемонстрировал не вполне дальновидную и стратегически выверенную политику в области цифровизации в России.
Обзор литературы: цифровизация в России
Процесс цифровизации уже более 10 лет является активным глобальным трендом. Для его активизации еще в 2017 г. Международным институтом телекоммуникаций были определены ключевые направления: Экономика; Процесс получения людьми компетенций; Работа правительства; Мобильная связь и транспорт; Жизнь общества; Профессиональная среда взаимодействия, платформы, экосистемы; Системы ЖКХ (водопот-ребление, энергопотребление, обращения с отходами); Социальная сфера (здравоохранение, образование); Система безопасности [Collection Methodology ... , 2017].
При этом еще ведутся дискуссии о том, что же считать процессом цифровизации на уровне государственного и муниципального управления. О’Грейди и О’Хара справедливо отмечают, что не существует единого алгоритма для проведения процесса цифровизации и, соответственно, его единого понимания [O’ Grady, O’Hare, 2012].
В одних источниках процесс цифровизации понимается как процесс развития профильного сегмента экономики, такого как информационно-коммуникационный сектор. Другие исследователи полагают, что IT-сектор призван обеспечивать адаптивность социально-экономических систем к взаимным запросам [Natalini, Stolfi, 2011]. Если же IT-сектор региона остается безучастным к запросам социально-экономической, организационной и управленческой среды, не возникает обратной связи и адаптации, то все преимущества цифровизации оказываются незадействованны-ми. В других источниках под цифровизацией понимается изменение системы взаимоотношений между государственной и муниципальной властью, жителями и бизнесом [Vasilenko, Zotov, 2020].
В данном исследовании автор склоняется к тому, что смысл процесса цифровизации заключается в скорости или быстроте реакции, «отзывчивости» различных участников процесса регионального роста и развития по тем направлениям, которые были обозначены выше. Роль цифровизации отмечена в 1990-х гг., когда было обосновано значение информационно-коммуникационных технологий для активизации роста и развития современной экономики городов и регионов [Zhao, Junjia, 1994; Zhu, 1995; Riaz, 1997]. Далее Калифорнийским институтом была предложена концепция проектирования городов с учетом расширения использования информационных технологий в критически важных элементах инфраструктуры и услугах, что заложило основу для всевозможных умных систем [Alawadhi et al., 2012; Thompson, 2016].
Противоположный взгляд развивал Центр управления Университета Оттавы, считая идею Калифорнийского института излишне технокра-тичной. По мнению канадских специалистов, процесс цифровизации должен быть направлен на трансформацию управления региональным развитием [Анненкова, Залоило, 2019].
В дальнейшем произошел определенный синтез представлений, где за инструментальную часть – сбор, интеграцию данных реального мира – отвечают датчики, камеры наблюдения, приборы, персональные устройств и других средств сбора данных. За взаимодействия отвечают информационно-коммуникационные платформы, которые позволяют агрегировать и представлять информацию в требуемом разрезе, передавать ее между различными пользователями. Интеллектуальные системы обеспечивают комплекс аналитики, моделирования, оптимизации и визуализации, что способствует поддержке процесса принятия управленческих решений на уровне государственного и муниципального управления (предлагает сценарии действий, оценивает последствия в автоматическом режиме) [Sidorenko, Bartsits, Khisamova, 2019].
По мере развития концепции и процессов цифровизации объектные границы раздвинулись шире. Процесс цифровизации уже перестал ограничиваться IT-сектором и управленческими решениями, дополнительно появились элементы учета и включения человеческого фактора в виде социального и профессионального капитала [Habibi, Zabardast, 2020]. В конечном итоге это повлияло на формирование представления о процессе регионального управления как о децентрализованном процессе.
Когда процесс цифровизации приобрел массовый и всеобщий характер, запустились процессы институциализации, которые в России привели к формированию системы стратегических документов. Национальная программа «Цифровая экономика» [Национальная программа ... , 2019], под руководством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направлена на выработку основ и правил нормативного регулирования цифровой среды, подготовку кадров для цифровой экономики и IT, формирование информационной инфраструктуры (волоконно-оптических линий связи и спутниковых систем), развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, цифровых государственных сервисов и систем управления, обеспечение цифровой безопасности. В 2021 г. эта работа воплотилась в набор стратегий цифровой трансформации регионов по 6 основным направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, государственное управление и социальная сфера [Стратегии цифровой ... , 2021].
Если говорить о пространственном аспекте цифровизации, то следует заметить, что технологии и сервисы обычно не связаны с конкретными городами и регионами (а порой и странами) и поэтому они выходят за пределы контроля со стороны органов государственной власти, то есть являются сквозными (Интернет, платформенные решения). Это ставит вопрос определения внутренних границ, которые ложатся в основу безопасности и устойчивости использования сервисов и технологий, то есть возможности сохранения технологического потенциала даже при условии отключения от сквозных технологий [До- рофеева, Рослякова, 2019]. Ярким примером является отключение в 2022 г. России от сервиса по бронированию гостиниц Booking, и оперативный переход активности на другие сервисы, например Островок, свидетельствует об устойчивости данного технологического процесса.
Установление внутренних границ по отношению к сервисам и технологиями, составляющим основу процесса цифровизации, требует от последних учета территориальных и региональных особенностей для обеспечения как максимизации выгод для территории и ее агентов, так и комплексной безопасности [Коровин, 2022]. Это, в свою очередь, предполагает некоторое дублирование технологических процессов и сохранение резервных мощностей, как, например, в электроэнергетике, когда в регионах существуют запасные независимые источники питания на случай сбоя у основных электростанций. Содержание таких систем требует дополнительных затрат и при условии бесперебойной работы основных систем более низкие уровни управления будут стремиться переложить данные риски на более высокий уровень управления. Такое положение вещей обусловливает потребность формирования системы стратегических приоритетов и соответствующих ей систем ожидаемых рисков и результатов.
Сфера IT в России: исходная ситуация и реакция на санкции
Одним из наиболее ярких примеров реализации рисков безопасности и устойчивости системы при нарушении условий договорных и партнерских отношений являются события на рынке информационных и телекоммуникационных технологий. В сегменте разработок программного обеспечения (далее – ПО) устоялись такие схемы партнерства, когда российские разработчики обеспечивали донастройку систем, предоставляемых крупными зарубежными игроками. После череды объявлений об уходе с российского рынка отрасль оказалась дезорганизована, резко встал вопрос перестроения связей и поиска новых стратегических партнеров. В частности, объявили о своем уходе и крупные производители ПО (SAP, Oracle, Adobe, Microsoft, Norton) и поставщики аппаратных средств (IBM), а также компании-интеграторы (Cisco). Кроме того, остро встал вопрос транспортного обеспечения морских перевозок, так как два центра сертификации картографической навигационной информа- ции: IC-ENC (International Centre for ENCs) при Британском гидрографическом ведомстве (UKHO) и Primar под управлением Норвежской гидрографической службы (NHS) [Особенности векторных ... , 2020] координируются географическими службами, входящими в блок НАТО. Кроме того, уже имели место случаи отключения или отказа в обновлениях для российских перевозчиков [Российским судам ... , 2022]. При этом сложившаяся система распределения рисков при перевозках такова, что все морские перевозчики обязаны использовать только те карты, которые прошли контроль качества и включены в Мировую коллекцию карт, которую ведут только два указанных центра. Такой экосистемный характер сферы IT порождает серьезные внешние эффекты на многие сферы, не связанные с IT непосредственно, как в случае с морскими перевозками. Соответственно, вопросы развития Серверного морского пути, южного коридора (через Каспийское море), перспективы развития дальневосточных морских портов имеют существенные риски, связанные с IT-сферой.
Ряд компаний не остановился на этом и реализовал вывоз российских сотрудников [Королев, 2022], то есть можно видеть попытку полномасштабного переноса IT-сферы и ее потенциала за границы России, что, несомненно, представляет угрозу национальной безопасности. Важно подчеркнуть высокую комплексность IT, которая определяет широкий перечень эффектов на экономику и социальную сферу, но в данной ситуации они носили негативный характер. Критического значения этой сферы для безопасности страны не было, однако трансформировано на предыдущих этапах развития в самодостаточность и импортонезаивисмость, что сделало возможным подобную ситуацию.
Вектор инновационного и технологического развития российских IT-гигантов в последние несколько лет не позволил запустить процесс консолидации предложения на рынке ПО, снять угрозу возможных блокировок в будущем и предотвратить проблему, связанную с уходом иностранных компаний. По нашему мнению, причина кроется в том, что компании, обладающие наибольшими активами и компетенциями в сфере цифровизации, в качестве ключевой для отрасли избрали стратегию отбора удачных идей, их дальнейшее масштабирование и коммерциализацию. Для этого осуществлялся сбор на специализированных площадках (песочницах, акселераторах, инкубаторах, нетворкингах, стартап-мара- фонах, хакатонах и проч.) большого количества разработчиков, где они на конкурентной основе доводили свои идеи.
Данная стратегия привела к формированию стартапов нескольких уровней развитости, которые с началом кризиса оказались в различных позициях: 1) высококонкурентные, имеющие большой потенциал к масштабированию. Ряд таких стартапов после начала СВО ушел из России, чтобы коммерциализировать свои разработки на больших по объему рынках Европы и США; 2) имеющие небольшой потенциал к масштабированию, остались без инвестиций со стороны организаторов «песочниц», так как в кризисной ситуации компании отказались от поддержки непрофильных направлений. Можно сказать, что они потеряли стратегического партнера, как и те компании, которые были связаны с иностранными партнерами, ушедшими сейчас.
По замечанию К. Паршина, этот процесс носил характер гонки амбиций [Время партнерств ... , 2022]. Крупные компании таким образом решали те проблемы, на которые они не хотели тратить творческий потенциал своих штатных специалистов. В этом контексте низкий уровень консолидации российского рынка ПО, с которым он встретил очередную волну санкций, кажется вполне закономерным. Вопросы выстраивания национального комплекса IT-отраслей, построение российского флагмана ПО, внедрение национальной операционной системы, по качеству и уровню превосходящей наиболее популярные сейчас, фокус на формирование импортонезависимости в части программных и аппаратных средств на уровне флагманов отрасли даже не ставились.
При этом нельзя сказать, что конкретные меры санкционного давления стали полной неожиданностью. Еще в 2019 г. было принято Положение Банка России [Положение Банка России ... , 2022], обозначившее ряд требований к обеспечению защиты информации о клиентах, предполагавшее хранение информации о них на российских серверах. В 2021 г. аналогичные требования распространились на страховые организации. Осознавая критическое значение IT-сферы для обеспечения устойчивости, частные компании формировали собственный штат специалистов, которые разрабатывали необходимые ПО решения для ключевых бизнес-процессов. Такая ситуация характерна как для промышленных предприятий, так и для сервисного сектора, соответственно, их степень готовности к случившимся трансформациям оказалась значительно выше.
Сфера IT в России: адаптация
Можно видеть, что в текущей ситуации совершенно разные агенты рынка IT (потребители; разработчики, партнеры российских компаний; разработчики, партнеры западных компаний) оказались в подвешенном состоянии. Потребовались экстренные меры по стабилизации IT-отрасли и актуализировался запрос на новые партнерские связи. Можно сказать, что произошло «приземление», появился фокус на то, что нужно и востребовано в сегменте прямо сейчас, что является гораздо более твердой почвой для развития партнерских отношений. Достаточно быстро встал вопрос о создании собственного флагмана IT, поскольку потребителям, особенно крупным, оказалось недостаточно отдельных решений (кусочков пазла). Необходимость в полноценной экосистеме (цельной картинке) повысила требования к комплексности и полноте российского ПО.
Таким образом, возникла естественная основа для того, чтобы крупные потребители ПО не из IT-сферы выступили инициаторами, инвесторами и потенциальными собственниками при разработке новых российских решений. В этих условиях заказчик становится полноценным партнером. Сейчас государство готово поддерживать такие отношения, поскольку есть понимание, что это условие для достаточно быстрого снижения уровня неопределенности в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной – это возможности получить российского вендора (крупную компанию, которая обладает линейкой собственных продуктов в сфере ПО); снижение же неопределенности – это важная основа для привлечения инвестиций в данную сферу, что обеспечит условия для дальнейшего развития. Это важно, поскольку в текущем моменте значительная часть бюджетов на развитие IT была пересмотрена в пользу закупки запасов аппаратных средств («железа») после объявления об уходе ряда крупнейших поставщиков сетевого оборудования и процессоров, которые до 100 % обеспечивали российский рынок пользовательскими и серверными процессорами [Крупнейшие IT-компании ... , 2022].
Серьезные трансформации коснулись и сегмента оборудования и комплектующих (аппаратных средств). Этот вопрос стоит так же остро, как и вопрос о ПО, поскольку любое крупное промышленное предприятие сейчас обладает высоким уровнем цифровизации. Так, на производстве ПАО «Северсталь» используется 17 тыс. наиме- нований оборудования и комплектующих и любое из них может повлиять на непрерывность производственного процесса [Васильев, 2022]. В условиях раскручивающейся санкционной спирали, даже имея средства, ресурсы, логистику, не всегда можно получить необходимые комплектующие и запчасти, поэтому критическое значение имеет импортозамещение широкого круга номенклатуры.
Однако, учитывая характер протекающих процессов, существуют опасения, что произойдет замещение одних иностранных поставщиков на других иностранных поставщиков. В дополнение наблюдается укрепление рубля, что стимулирует импорт. Поэтому встает вопрос о формировании национальной стратегии «импортонеза-висимости» России в части оборудования, материалов, комплектующих, узлов, деталей для высокотехнологичных бизнес-процессов, которой нет ни для отрасли IT, ни для других отраслей.
Роль государства в процессе адаптации
Государство, в свою очередь, также выступает активно действующей на рынке IT-силой, которая поддерживает и мотивирует одновременно. С одной стороны, полноценные альянсы разработчиков и заказчиков, консорциумы разработчиков ПО государство готово поддерживать, предоставляя субсидии, льготное кредитование, меры налоговой поддержки и т. п. [Указ Президента РФ № 83 ... , 2022]. С другой стороны, государство выступает регулятором, повышая требования к уровню развития отечественного ПО и программно-аппаратных средств, особенно в отношении государственных корпораций. Это является хорошей основой для того, чтобы механизмы регулирования и развития отрасли разрабатывались в компаниях, которые обладают большей организационной гибкостью, а не директивным порядком утверждались и внедрялись государством.
В случае, когда речь идет об определении перечня критических технологий и инфраструктуры в сфере IT, роль государства значительно возрастает, поскольку именно оно смотрит на данный процесс с позиций фундаментальной устойчивости и обеспечения безопасности. И здесь существующая «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» [Стратегия развития отрасли ... , 2018], к сожалению, не выдерживает критики. Среди основных принципов указано сохранение интегрированности российской отрасли в глобальную индустрию IT, при этом в качестве ключевой цели названо обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, индустрии и граждан. Невозможность достижения указанной цели на основе принципа открытости уже была продемонстрирована в сфере IT и ряде других российских отраслей в 2022 году.
Дорожная карта развития отрасли ориентирована на повышение конкурентоспособности российской юрисдикции для работы мировых IT-компаний, наращивание экспорта IT, поддержку малого предпринимательства в этой сфере [Стратегия и «дорожная ... , 2021]. Если говорить о стратегии цифровой трансформации [Стратегии цифровой ... , 2021], которая представляет собой набор отдельных стратегий регионов, то здесь акценты смещены на расширение использования достижений цифровизации (внедрение цифровых решений [Стратегия цифровой ... , 2021]). Очевидно, что в условиях отсутствия собственных ПО решений и аппаратных средств расширение процессов цифровизации, расширение числа пользователей и объема запросов от них ведет к росту зависимости России от импорта и, соответственно, снижению уровня устойчивости IT-системы. Комплекс стратегических документов в IT-сфере закладывает стратегическую опасность повторения текущего кризиса, с еще более разрушительными последствиями, так как потенциальных возможностей замещения внешних поставщиков может оказаться меньше, чем сейчас.
Заключение
Можно предложить следующие важные направления развития IT-сферы. Большое значение имеет дополнение перечня критически важного импорта, производство которого отсутствует в России. Для высокотехнологичных отраслей и комплексов, обеспечивающих условия устойчивости страны, по нашему мнению, необходимо сформировать перечень наименований продукции, узлов, деталей комплектующих, технологий и инфраструктуры, для которых необходимо обеспечить «импортонезависимость» (также данный процесс обозначается как техно-национализм [Матковская, 2022], технологический суверенитет [Константинов, Константинова, 2022]), создав условия для развития внутреннего производства. На основе этого документа возможно формирование общегосударственной стратегии снижения зависимости от импорта и повышения национальной устойчивости в критически важных областях. В качестве одного из элементов такой стратегии должна быть предусмотрена стратегия развития IT-отрасли, направленная на развитие комплекса программных и аппаратных средств, что позволит предотвратить повторение проблем, возникших сейчас.
Комплексный план снижения зависимости от импорта должен быть направлен на то, чтобы параллельный импорт был дополнен российскими технологическими разработками, что позволит обеспечить принципиально более высокий уровень технологической зрелости в критически важных областях экономики и производства. Обеспечение со стороны государства спроса, поддержки и условий для расширения производства будет способствовать локализации и появлению национального производства.
Партнерство между государством и бизнесом здесь должно проявляться в том, что государство определит критически важные для него элементы технологий и обеспечит условия для ускоренного развития бизнеса, а бизнес, решая производственные отраслевые задачи, в свою очередь, обеспечит независимость страны в критически важных сферах. Соответственно, большое значение приобретают расширение полноты возможностей бизнеса, предпринимательской инициативы, поддержка кооперационных связей, отказ от принципа «презумпции виновности» бизнеса, который часто имеет место при взаимодействии с государственными структурами (налоговыми, проверяющими органами).
Список литературы Цифровизация как инструмент глобального партнерства: шоки и трансформации российской сферы IT
- Анненкова И. В., Залоило М. В., 2019. Новая культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная идентичность // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. № 3. С. 140–155.
- Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин, 2022 // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20220610/bayden-1794697162.html
- Васильев Н., 2022. У металлургов проблемы с оборудованием и экспортом, отрасль ждут сокращения? // Московская газета. URL: https://mskgazeta.ru/obshchestvo/u-metallurgov-problemy-s-oborudovan iem-i-ekspor tom-otrasl-zh dutsokrasheniya--10649.html
- Время партнерств: сотрудничество компаний и отраслей на пути к преодолению кризиса, 2022 // Росконгресс. URL: https://roscongress.org/sessions/spief-vr emya-par tn erstv-sotr udnich estvokompaniy-i-otrasley-na-puti-k-preodoleniyu-krizisa/participants/#
- Дорофеева Л. В., Рослякова Н. А., 2019. Концепция умных городов как инструмент формирования умной специализации регионов: монография. СПб.: Скифия-принт. 150 с. DOI: 10.34981/Lab-67.2019.dorofeeva.roslyakova.smartcities.1-150
- Кейнс Дж. М., 1978. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс. 494 с.
- Коноплянко П., 2022. Оштрафовать оштрафованного: названы варианты новых санкций против Ирана // Московский Комсомолец. № 28893. URL: https://www.mk.ru/politics/2022/10/18/oshtrafovatoshtrafovannogo-nazvany-varianty-novykhsankciy-protiv-irana.html
- Константинов И. Б., Константинова Е. П., 2022. Технологический суверенитет как стратегия будущего развития российской экономики // Вестник Поволжского института управления. № 22 (5). C. 12–22. DOI: 10.22394/1682-2358-2022-5-12-22
- Коровин Г. Б., 2022. Агент-ориентированная модель цифровизации промышленности региона // Вестник Забайкальского государственного университета. № 28 (7). C. 104–114. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-7-104-114
- Королев Н., 2022. IT-компании экспортируют сотрудников // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5237954
- Крупнейшие IT-компании покидают Россию, 2022 // Смотрим. URL: https://smotrim.ru/article/2685316
- Матковская Я. С., 2022. Техно-национализм и инновационное развитие современной экономики // Друкеровский вестник. № 4 (48). С. 49–64. DOI: 10.17213/2312-6469-2022-4-49-64
- Миллер А., Лукьянов Ф., 2016. Отстраненность вместо конфронтации: постевропейская Россия в поисках самодостаточности // Совет по внешней и оборонной политике. URL: https://svop.ru/wpcontent/uploads/2016/11/miller_lukyanov_rus.pdf
- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7, 2019 // Минцифры РФ. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
- Особенности векторных навигационных карт и пути их распространения, 2020 // Агат-Аквариус. URL: https:// www.agat-a.ru/osobennosti-vektornyh-navigacionnyh-kart-i-puti-ih-rasprostraneniya
- Положение Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» [по состоянию на 18.02.2022], 2022. URL: https://base.garant.ru/72246408
- Райнерт Э. С., 2011. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономовой ; под ред. В. Автономова. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 384 с.
- Рослякова Н. А., Новиков А. Б., 2019. Проблемы формирования и развития среднего класса в меняющемся мире // Известия Санкт-Петербургского Государственного экономического университета. № 4 (118). С. 115–118.
- Российским судам отключили обновления электронных навигационных карт, 2022 // Корабел.ру. URL: https://www.korabel.ru/news/comments/rossiyskim_sudam_otklyuchili_obnovleniya_elektronnyh_navigacionnyh_kart.html
- Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР, 2022 // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20220527/veto-1790999505.html
- Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии, 2022 // Росконгресс. URL: https://roscongress.org/sessions/spiefsamodostatochnost-i-kooperatsiya-osobennostisovremennoy-politekonomii/discussion/#
- Стратегия и «дорожная карта» развития ИТ-отрасли, 2021 // Минцифры РФ. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/479
- Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года [по состоянию на 18.10.2018], 2018. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154161/22444572fce92dd3d63da856c260fb49e8f921dc
- Стратегии цифровой трансформации, 2021 // Минцифры РФ. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064
- Стратегия цифровой трансформации: написать, чтобы выполнить, 2021 // под ред. Е. Г. Потаповой, П. М. Потеева, М. С. Шклярук. М.: РАНХиГС. 184 с.
- Тимофеев А., 2022. История ограничений: почему санкции против России были всегда // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/social/2022/03/03/14596663.shtml
- Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» [по состоянию на 02.03.2022], 2022. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
- Чанг Х.-Дж., 2015. Как устроена экономика / пер. с англ. Е. Ивченко ; [науч. ред. Э. Кондукова]. М.: Манн, Иванов и Фербер. 322 с.
- Черкесов Е., 2022. США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют // Cnews. URL: https://www.cn ews.r u/n ews/top/202 2-10-17_ssha_postavila_na _koleni_kitajskuyu
- Черненко Е., 2022. Декларация Вильностей // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5434233
- Alawadhi S., Aldama-Nalda A., Chourabi H., Gil-Garcia J. et al., 2012. Building Understanding of Smart City Initiatives // The Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Government (EGOV) 3-6.09.2012. Kristiansand: Springer. P. 40–53. DOI: 10.1007/978-3-642-33489-4_4
- Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities, 2017 // International Telecommunication Union. URL: https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-U4SSCCollection-Methodology/files/downloads/17-004 74_Collect ion -Meth odology-for-Key-Performance-Indicators-for-Smart-Sustainable-Cities.pdf
- O’Grady M., O’Hare G., 2012. How Smart Is Your City? // Science. Vol. 335, iss. 6076. P. 1581–1582. DOI: 10.1126/science.1217637
- Habibi F., Zabardast M. A., 2020. Digitalization, Education and Economic Growth: A Comparative Analysis of Middle East and OECD Countries // Technology in Society. Vol. 63. Art. 101370. DOI: 10.1016/j.techsoc.2020.101370
- Maharajah R., 2021. A Vaccine Against Intellectual Hubris // Errant Journal. Vol. 1 (2). P. 77–81.
- Natalini A., Stolfi F., 2011. Mechanisms and Public Administration Reform: Italian Cases of Better Regulation and Digitalization // Public Administration. Vol. 90 (2). P. 529–543. DOI: 10.1111/ j.1467-9299.2011.01998.x
- Riaz A., 1997. The Role of Telecommunications in Economic Growth: Proposal for an Alternative Framework of Analysis // Media, Culture & Society. Vol. 19 (4). P. 557–583. DOI: 10.1177/016344397019004004
- Sidorenko E., Bartsits I., Khisamova Z., 2019. The Efficiency of Digital Public Administration Assessing: Theoretical and Applied Aspects // Public Administration Issues (HSE). No. 2. P. 93–114.
- Thompson E. M., 2016. What Makes a City «Smart»? // In ter n ation al Jour n al of Ar ch itectur al Computing. No. 14, iss. 4. P. 358–371. DOI: 10.1177/1478077116670744
- Vasilenko L. A., Zotov V. V., 2020. Digitalization of Public Administration in Russia: Risks, Casuses, Problems // Digital Sociology. Vol. 3 (2). P. 4–16. DOI: 10.26425/2658-347X-2020-2-4-16
- WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, 2022 // World Health Organization. URL: https://covid19.who.int/
- Zhao D. A., Junjia L., 1994. Telecommunications Development and Economic Growth in China // Telecommunications Policy. Vol. 18 (3). P. 211–215. DOI: 10.1016/0308-5961(94)90076-0
- Zhu J., 1995. Shanghai: A Study on the Spatial Growth of Population and Economy in a Chinese Metropolitan Area // Chinese Journal of Population Science. No. 7 (1). P. 1–11. DOI: 10.1007/s11442-016-1319-7