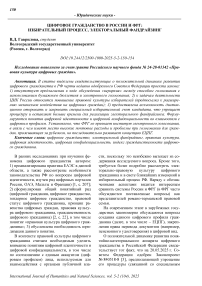Цифровое гражданство в России и ФРГ: избирательный процесс, электо- ральный фандрайзинг
Автор: Гаврилова В.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье выделены свидетельствующие о положительной динамике развития цифрового гражданства в РФ черты недавно одобренного Советом Федерации проекта закона: 1) отсутствует предлагаемая в ходе обсуждения «иерархия» между способом голосования с использованием бумажного бюллетеня и электронного голосования; 2) к задачам деятельности ЦИК России относится повышение правовой культуры избирателей (предпосылка к расширению механизмов воздействия на цифровых граждан); 3) предоставлена возможность дистанционно открывать и закрывать специальный избирательный счет кандидата, что упрощает процедуру и оставляет больше времени для реализации электорального фандрайзинга. Формулируются понятия цифровой идентичности и цифровой конфиденциальности во взаимосвязи с цифровым профилем. Установлено, что ФРГ не признает институт электронного голосования, в связи с чем имеют место высокие почтовые расходы и проблемы при голосовании для граждан, проживающих за рубежом, но последовательно развивает концепцию ЕЦПГ.
Цифровое гражданство, электоральный фандрайзинг, правовая культура, цифровая идентичность, цифровая конфиденциальность, индекс гражданственности цифрового гражданина
Короткий адрес: https://sciup.org/170209356
IDR: 170209356 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-150-154
Текст научной статьи Цифровое гражданство в России и ФРГ: избирательный процесс, электо- ральный фандрайзинг
В ранних исследованиях при изучении феномена цифрового гражданства автором: 1) проанализирована практика ЕАЭС в данной области, а также рассмотрены особенности законодательства РФ по вопросам цифровой идентичности, изучен ряд цифровых порталов России, ОАЭ, Мальты и Франции) [1, с. 207]; 2) сформулирован общий понятийный ряд (цифровой гражданин, цифровое гражданство, гендерное цифровое гражданство, правовой статус цифрового гражданина, принцип равенства цифровых граждан, правовая культура цифрового гражданина, гражданственность цифрового гражданина) [2, с. 22], в том числе понятие «правовая культура цифрового гражданина»; 3) обусловлена необходимость юри-дизации данного понятия.
В контексте правовой культуры цифрового гражданина считаем необходимым уделить внимание понятиям цифровой идентичности и цифровой конфиденциальности, в том числе по соотношению с единым аккаунтом (цифровым профилем) лица, используемым для взаимодействия с органами публичной вла- сти, поскольку это неизбежно вытекает из содержания исследуемого вопроса. Кроме того, требуется более подробно рассмотреть электорально-правовую культуру цифрового гражданина и в свете ближайших изменений в избирательный процесс РФ. Наряду с обозначенными аспектами видится интересным сравнить системы России и ФРГ (в ФРГ часто обсуждаются поставленные вопросы) как представителей романо-германской правовой семьи.
На современном этапе в зарубежных государствах закономерно обсуждаются вопросы создания единого цифрового профиля гражданина (далее, в том числе - ЕЦПГ), закрепления права перевода документов (например, пенсионного удостоверения) в цифровой вид.
О положительной динамике развития понятийно-категориального аппарата цифрового гражданства в Российской Федерации свидетельствует тот факт, что на 20.05.2025 г. Советом Федерации одобрен Законопроект № 840518-8 [3], предполагающий упрощение его процедуры (связанной со специальным счетом кандидата) и уточняющий терминологию электронного голосования, полномочия в области повышения уровня правовой культуры граждан по данным вопросам, что коррелирует с тематикой цифрового гражданства и косвенно затрагивает вопрос участия граждан в электоральном фандрайзинге. Анализ предполагаемых изменений в поле темы цифрового гражданства позволяет отметить следующее.
Во-первых, в процессе обсуждения законопроекта имелись инициативы, направленные на выстраивание некоторой иерархии между «классическим» («бумажным») способом и электронным голосованием. В частности, некоторые депутаты настаивали на том, что это лишь «дополнительный к основному (с использованием бумажного бюллетеня) вариант голосования», предлагалось закрепить также право избирателя получать «отчет» на бумажном носителе о том, как был учтен его голос, в том числе в течение года после завершения избирательной процедуры.
Вместе с тем, заметим, что для формирования цифровым гражданином такого «отчета» требовался бы модуль в системе, для создания которого необходимы бюджетные средства, при этом резонно возникают вопросы о том, насколько гражданам был бы необходим данный документ. Проект федерального закона принят и одобрен в той редакции, которая определила электронное голосование через указание на отсутствие бумажных носителей и использование соответствующего комплекса. Подход законодателей об отсутствии «иерархии» между моделями политикоправового участия позволяет изучать институт цифрового гражданства как самостоятельное правовое явление.
Во-вторых, анализируемый законопроект содержит множество указаний на уточнение полномочий ЦИК России: в частности, задача по организации «правового обучения избирателей» заменяется положением о том, что ЦИК способствует «повышению правовой культуры избирателей». На наш взгляд, данное предложение закономерно и может привести к расширению числа механизмов воздействия на цифрового гражданина, что возможно будет в дальнейшем проследить из Постановлений ЦИК (очевидно, что указание на высокий уровень правовой культуры важно для развития правосознания избирателя в целом, формирования у него ответственного отношения к реализации своих прав, в том числе цифровых).
В-третьих, в законопроекте № 840518-8 предлагается предоставить кандидатам дистанционно открывать и закрывать специальные избирательные счета, что позволит снизить количество затрачиваемого времени, которое возможно направить на работу с избирателями и организацию электорального фандрайзинга.
Последний значим для нас с точки зрения развития электоральной культуры цифровых граждан [4, с. 38], деятельность которых направлена на использование цифровых компетенций для экономии ценных ресурсов. После оперативного открытия специального счета и тщательного выбора избирательной платформы кандидат нуждается в финансировании, которое может быть обеспечено и за счет средств избирателей. Данный аспект интересен тем, что в представлении общественности имеются скептические позиции о «жадности» и пассивности избирателей, однако при более глубоком изучении данной процедуры видно, что цифровой гражданин таким образом может повлиять на «политическую конкуренцию» более масштабно; цифровой гражданин, выбрав соответствующую своим интересам программу кандидата, заинтересован в победе последнего. Этот аспект отражает значимость правового просвещения, поскольку далеко не все граждане понимают механизм электорального фандрайзинга. И, наконец, на гражданственность цифрового гражданина влияет сам факт участия в сборе средств для поддержки кандидата (это само по себе характеризует инициативу и определяет более высокую степень вовлеченности лица, которое реализует активное избирательное право).
В продолжение темы заметим, что в настоящее время основной формой деятельности государств по нормативному закреплению и реализации основных прав цифровых граждан является работа над концепцией ЕЦПГ, совершенствование механизмов оказания «административных услуг», что необходимо для снижения уровня бюрократической нагрузки на население.
Например, в апреле 2025 г. МВД ФРГ предложено внесение изменений в порядок получения паспортов и иных официальных документов в части полной замены бумажных носителей цифровыми фото [5] (размещаются гражданами на облачном хранилище, ссылка направляется для получения услуги). Однако следует отметить увеличение в ФРГ числа платных обязательных «административных услуг», организуемых в связи с требованиями безопасности. Так, в проекте МВД Германии (с переходным периодом до 31 июля 2025 г.) содержится запрет на «самовывоз» документов с цифровыми фото, введено положение об их специальной доставке (15€). Кроме того, коалицией ХДС/СДПГ вынесена на обсуждение идея о цифровом пенсионном удостоверении [6], указывающая на необходимость перевода услуг в цифровой вид в целях снижения бюрократической нагрузки.
Несмотря на то, что государство указывает исключительно на снижение бюрократии, неизбежно указание на упрощение форм осуществления цифровым гражданином прав, а в свете проведения просветительских мероприятий будут иметь место высокие индексы, отражающие уровень цифровых навыков. Вопрос пересекается с проблемой повышения общего уровня правовой культуры гражданина: подразумевается оказание помощи лицам, которые плохо разбираются в цифровых ресурсах и могут не обладать достаточным уровнем цифровых навыков для применения данного удостоверения в цифровом поле.
В целом, анализ зарубежной практики в области развития института цифрового гражданства показывает, что опыт Российской Федерации по созданию портала Госуслуг является передовым и наиболее результативным ввиду своей собирательности (на одном портале можно заказать необходимые справки, осуществлять управление полисом ОМС, узнавать информацию о выплатах на детей и др.)
В свою очередь, в ФРГ в настоящее время вновь обсуждается развитие концепции «Bürgerkonto» [7]: инициативы по созданию ЕЦПГ или «цифрового профиля», отчасти схожего с Госуслугами (РФ). Однако отметим, что вопрос обсуждается в большей степени не с точки зрения упрощения возможностей цифрового гражданина, а с точки зрения предотвращения угроз утечек конфиденциальных данных.
Несмотря на то, что «Bürgerkonto» активно используется в контексте инициативы по единому профилю, анализ работы ряда органов власти ФРГ позволяет утверждать, что на данном этапе указанный термин применяется в контексте личного счета гражданина, привязанного к имеющемуся ID в практике таможенных и налоговых органов. В целом правоспособность цифрового гражданина также расширяет использование ряда мобильных приложений (например, «Zoll-Ident App» – взаимодействие с таможенными и налоговыми органами).
Вместе с тем, изучая поставленную тему путем сравнительно-правового метода, несложно проследить основное отличие систем РФ и ФРГ, поскольку последняя отрицает институты электронного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что следует из Федерального положения о выборах ФРГ. На наш взгляд, уникальность опыта ФРГ в данном вопросе связана с тем, что отказ от электронной системы голосования обусловлен не просто общими указаниями на возможность нарушения режима конфиденциальности информации, а позицией Федерального конституционного суда ФРГ от 2009 г. «Использование избирательных машин на выборах в Бундестаг 2005 года противоречит Конституции» [8].
Как следует из текста судебного акта, основной причиной отказа послужили массовые жалобы на кибер-атаки, а также подозрение о фальсификациях выборов. В научной литературе данный подход связывается с исторически обусловленным чувством безопасности. Вместе с тем, заметим, что в настоящее время государства обладают большим объемом информационных ресурсов для противостояния атакам по сравнению с состоянием на 2009 г.
Противники системы электронного голосования в ФРГ также ссылаются на противоречие прозрачности выборов и нарушение тайны голосования, о чем свидетельствуют и стенограммы заседания Бундестага. Например, член Бундестага Глейзер (AFD) доказывал, что закрепление института дистанционного электронного голосования приведет к тому, что толпа людей будет голосовать совместно, влияя на позиции друг друга (напри- мер, в местах общественного питания) [9]. Заметим, что непринятие института электронного голосования прослеживается и в других странах: Аргентине, Канаде, Ирландии, Казахстане, Литве и Нидерландах.
На наш взгляд, основной недостаток такого подхода заключается не в ином толковании принципов избирательного процесса, а в высоком числе почтовых расходов по отправке бумажных бюллетеней гражданам, проживающих за рубежом (в том числе увеличение стоимости почтовых расходов в связи с пандемией 2020 г.). Анализируя иностранную литературу, удалось, например, найти информацию об увеличении с 28,6% до 47,3% отправленных гражданам ФРГ бюллетеней с 2017 по 2021 г. [10], что в масштабах бюджета государства представляется большой цифрой. Кроме того, даже начало такой процедуры сопровождается обязанностью гражданина, проживающего за рубежом, письменно обращаться для внесения в списки избирателей, что усложняет реализацию права.
В этой связи в начале 2025 г. Фонд поддержки немцев за рубежом в очередной раз выступал с инициативой об электронном голосовании (выборы в Бундестаг) [11] с целью снизить почтовые расходы и бюрократическую нагрузку, по сути позволив гражданам получить цифровое гражданство и реализовать право оперативно, без многих заявлений и ожиданий.
Разумеется, следует выделить несомненный прорыв Российской Федерации в интеграции институтов цифрового гражданства: электронное голосование и ДЭГ развиваются последовательно, заложены основы, которые позволят теоретически увеличить время на электоральный фандрайзинг.
В контексте изложенного представляется интересным уточнить особенность следующего элемента понятийного ряда института цифрового гражданства: «единый цифровой профиль» гражданина находится в тесной взаимосвязи с категорией «цифровой идентичности» лица, поскольку последняя, являясь результатом правовой аутентификации лично- сти, предполагает формирование чувства собственного «Я» на основе принадлежности к какой-либо группе – в данном случае к цифровым гражданам.
В свою очередь, понимание цифрового профиля как информационного электронного носителя, где хранятся все данные о гражданине влечет рост интереса к такой категории, как «цифровая конфиденциальность», которая рассматривается нами как право и гарантия сохранения персональных данных в рамках узкого цифрового пространства (например, аккаунта гражданина или ситуативного использования с согласия гражданина его данных). Полагаем, уточнение данных понятий в качестве самостоятельных необходимо, поскольку, являясь качественным показателем, они отражают степень самостоятельности цифрового гражданина и уровень его правовой культуры (по вопросу оценки собственного уровня цифровой безопасности), но не заменяют социально-психологическую идентичность. Это обуславливается возможностью корректировки публичного образа в цифровом пространстве и возможностью использовать распространенных механизмов обеспечения конфиденциальности.
Таким образом, нельзя говорить о том, что цифровизация свидетельствует о повсеместной и закономерной интеграции институтов цифрового гражданства, поскольку законодательство государств имеет особенности, выражающиеся и в некоторых ограничениях. В этой связи нам представляется, что дальнейшая разработка понятийного аппарата цифрового гражданства актуальна. Видится позитивным выявленный в ходе сравнительноправового анализа прорыв Российской Федерации по упрощению избирательного процесса и созданию предпосылок для более эффективного повышения уровня правовой культуры цифровых граждан (изменения в полномочия ЦИК России) и обеспечения временных ресурсов для электорального фандрайзинга (вопросы специального избирательного счета кандидата).