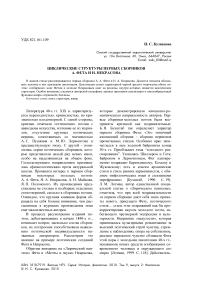Циклические структуры первых сборников А. Фета и Н. Некрасова
Автор: Кузнецова Ирина Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются первые сборники А. А. Фета и Н. А. Некрасова. Делается попытка обосновать наличие в них признаков циклизации. Циклизация станет характерной чертой зрелого творчества обоих поэтов: «собирание» книг Фетом и деление Некрасовым книг на разделы, внутри которых появятся циклические структуры. Особое внимание уделяется авторской специфике данных признаков циклизации и циклообразующей функции жанра «страшной» баллады.
Цикл, структура, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14737225
IDR: 14737225 | УДК: 821.161.109
Текст научной статьи Циклические структуры первых сборников А. Фета и Н. Некрасова
Литература 40-х гг. ХIХ в. характеризуется переходностью, кризисностью, но кризисностью плодотворной. С одной стороны, критики отмечали «оттеснение» поэзии с авансцены искусства, изгнание ее из журналов, отсутствие крупных поэтических вершин, сопоставимых со значимостью А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в предшествующую эпоху. С другой – появлялись серии поэтических сборников, которые представляли целый ряд новых имен, особо не выделявшихся на общем фоне. Господствующим направлением признавалась «физиологическая» проза натуральной школы. Проявился интерес к первым сборникам некоторых молодых поэтов: А. А. Фета, Н. А. Некрасова, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. Их произведения представлены не столько в подборках отдельных стихотворений, сколько в сборниках поэзии. Очевидно, что крупная книжная форма обращала на себя больше внимание, чем рассыпанные в журналах произведения пока еще малоизвестных авторов.
В процессе рассмотрения изданий поэтов, дебютировавших в начале 1840-х гг., возникает вопрос: насколько состав сборников, их построение способствовали выявлению поэтической индивидуальности названных литераторов. Рассмотрим это явление на примере поэтических созданий Фета и Некрасова.
Обратим внимание на «Лирический пантеон» Фета и «Мечты и звуки» Некрасова, которые демонстрировали юношеско-романтическую направленность авторов. Первые сборники молодых поэтов были восприняты критикой как подражательные. Б. Я. Бухштаб так определяет характер первого сборника Фета: «Это типичный юношеский сборник – сборник перепевов прочитанных стихов. Особенно ярко запечатлелся в нем ходовой байронизм конца 30-х гг. Преобладает тема “холодного разочарования”. Увлекаясь Шиллером и Гете, Байроном и Лермонтовым, Фет одновременно подражает Баратынскому, Козлову и Жуковскому; есть и совсем архаические стихи в стиле ранних карамзинистов, с обилием мифологических имен и сплошными перефразами» [Бухштаб, 1990. С. 19]. Л. М. Лотман, автор единственной специальной статьи о «Лирическом пантеоне», отметила, что при всей подражательности «в первом сборнике дают себя знать приметы нового, присущего Фету, поэтического стиля… стиль этих подражаний как бы прокорректирован вкусом молодого поэта, избегающего чрезмерной экспрессии и вульгарности. Неприятие «надутости», которая принималась вульгарными романтиками за высокий поэтический строй чувства, стремление к наблюдению, опора на собственное, реально пережитое чувство сближали Фета этой поры с молодыми писателями 40-х гг., искавшими новых средств изображения современного человека и окружающего его мира» [Лотман, 1999. С. 118]. Действитель-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология
но, реальная жизненная основа первых стихотворений Фета, искренние переживания, чувства лирического героя, скромный пейзаж родной природы – все эти черты в их совокупности придали своеобразие «Лирическому пантеону» и выделили его на фоне многочисленных эпигонски-романтических стихотворений других молодых поэтов. В «Мечтах и звуках» Некрасов также еще всецело оставался в рамках усредненного поэтического канона эпохи, который сложился под влиянием В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и был популяризован В. Г. Бенедиктовым. Его сборник наполняли многочисленные цитаты и реминисценции из произведений известных и малоизвестных поэтов. Таким образом, начинающие поэты, Фет и Некрасов, уже в первых сборниках пытались преодолеть устоявшиеся романтические штампы и реализовать свое видение мира. Как видим, эстетическая «неустойчивость» первых сборников Фета и Некрасова сближала их, определяла сходство внешних структурных моментов.
Различным было авторское отношение каждого из поэтов к своему первому крупному литературному опыту. Так, Фет никогда не «отказывался» от него, не уничтожал сборника. Он не писал о намерении не издать первой книги, – разве что пожалел, что деньги «пропали зря». В какой-то степени некоторые тенденции первой книжки проявились в дальнейшем творчестве. Некрасов же, наоборот, предпринял попытку «уничтожить» неудавшийся сборник стихов и обратился к сатире. Оба поэта прошли одни и те же «стадии» становления: ранние «сомнения» в собственном поэтическом таланте, апелляция к «авторитету» (Фет к Н. В. Гоголю, Некрасов к В. А. Жуковскому), неуспех первой книги у читателей, непонимание со стороны критики. Авторефлексия начинающих поэтов привела к переосмыслению первого литературного опыта, именно поэтому многие стихотворения, вошедшие в состав и «Лирического пантеона», и сборника «Мечты и звуки», не включались авторами в поздние издания.
Критические отзывы еще более обостряли ситуацию дебютных выступлений Фета и Некрасова. Если о Фете В. Г. Белинский высказался одобрительно, то некрасовские «Мечты и звуки» решительно «обругал». Его рецензия в «Отечественных записках»
занимала неполную журнальную страничку, и пафос ее был направлен на недопустимость «посредственности в стихах». Автор сборника «Мечты и звуки» критиком был изначально отнесен к числу «людей, не одаренных художническою фантазию, не одаренных воображением, чувством и способностью владеть языком» и потому лишенных «положительного художественного дарования» 1 [Белинский. С. 118–119].
Казалось бы, первая книга Фета должна была удостоиться такой же оценки, – но нет! Сам Белинский не рецензировал ее: в последнем номере «Отечественных записок» на 1840 г. была напечатана рецензия на «Лирический пантеон» П. Н. Кудрявцева, в целом положительно оценившего молодого автора. «Как хороша его рецензия в последнем № на “Лирический Пантеон” Ф., – замечает Белинский в письме к В. П. Боткину от 26 декабря 1840 г. и добавляет показательную оценку, – только он уж чересчур скуп на похвалы – о строгий критик! А г. Ф. много обещает» (Т. 11. С. 584). Таким образом, исходя из разнонаправленных критических отзывов на издания Фета и Некрасова, можно определить характер дебюта каждого из них. Выступление Фета явилось дебютом в прямом смысле этого слова, выступление же Некрасова можно назвать «ложным» или «предварительным», «пробным» дебютом. В № 11 «Отечественных записок» за 1840 г. была напечатана восторженная рецензия Белинского на только что вышедший сборник «Стихотворения М. Лермонтова». В ней критик разделил литераторов на «собственно стихотворцев-поэтов» и «прозаиков-поэтов». «Н. Н.» в его представлении был начинающим и не очень еще умелым «прозаиком-поэтом» (об этом он прямо пишет в начале своей рецензии на «Мечты и звуки») – «много обещающий» «г. Ф.» принадлежал, несомненно, к числу «стихотворцев-поэтов», которых, по определению, «микроскопически мало» (Т. 4. С. 371–372). Таким образом, уже первые сборники «развели» двух поэтов по разным поэтическим дорогам, обозначили как точки соприкосновения их творчества, так и полюса отталкивания.
Однако следует заметить тот факт, что и у Фета, и у Некрасова дебютные издания выступают в циклических формах, которые в дальнейшем их творчестве найдут последовательное и более яркое выражение. В этом аспекте сборники поэтов не подвергались сравнительному анализу. Рассмотрим признаки циклизации и их индивидуальноавторскую окраску в том и другом сборнике.
Прежде всего, необходимо установить степень авторского участия в составлении издания. В «Предисловии» к третьему выпуску «Вечерних огней» Фет отмечал: «Так, все написанные стихотворения, вошедшие в “Лирический Пантеон” и в издание 1850 г., собраны и сгруппированы рукой Аполлона Григорьева, которому принадлежат и самые заглавия отделов» [Фет, 1912. С. 83]. Это утверждение Фета указывает на то, что принцип циклообразования его дебютного сборника определен, с согласия поэта, А. Григорьевым. Пятьдесят восемь стихотворений, написанных до 1840 г., он разместил по 3 разделам: «Баллады», «Лирические стихотворения», «Переводы». Последние 11 стихотворений из раздела «Лирические стихотворения», не имеющие заглавия, были объединены в одну группу. В основе деления стихотворений на данные 3 раздела лежит жанровый принцип. Исследователи творчества Фета отмечают характерную его особенность при составлении книг – тяготение к жанровому принципу, которое затем становится постоянным, реализуясь в структуре многих сборников. Однако жанровые заглавия (данные А. Григорьевым) впоследствии станут пропитываться фетовской образной ассоциативностью, приобретут индивидуальную семантику.
Большая часть подобных отделов («Элегии и думы», «Весна», «Лето», «Снега», «Вечера и ночи», «Антологические стихотворения», «Море» и др.) имеется уже в издании 1856 г. и сохранена в последующих, где новые стихотворения распределялись между прежними отделами. Так, в книге А. Кушнера «Аполлон в снегу» находим интересное замечание о принципе «собирания» Фетом лирических книг: «Своеобразное построение книг Фета, позволявшее ему помещать рядом стихи с разницей в написании в 30 лет и больше, очень многое объясняет в его творчестве. Вряд ли этот принцип удовлетворит еще какого-нибудь поэта. Кажется, Фет писал всю жизнь некую тематическую хрестоматию, в которой, например, стихи 1854 и 1870 годов оказывались рядом потому, что одно было им названо “Буря”, другое – “После бури”… Есть поэты, напоминающие в своем стремительном движении многоступенчатую ракету. Творчество Фета похоже на куст, на котором из года в год, к нашей радости, расцветают все те же цветы» [Кушнер, 1991. С. 41].
В отличие от Фета Некрасов самостоятельно определяет архитектонику своего сборника. Несмотря на то, что тематика первого сборника Некрасова достаточно разнообразна, в нем нет разделов (они появятся в следующем сборнике 1856 г., который можно считать настоящим дебютом).
В сборнике Фета внутри раздела «Лирические стихотворения» выделяется комплекс из 11 стихотворений, отнесенных в конец раздела. Все они не имеют ни частных заглавий, ни общего. При близости лирического тона и тематики отсутствие конкретного объединяющего названия позволяет утверждать, что перед нами некая общность, структурно отделенная от других «пьес». И в этом мы видим первый признак циклизации, который и будет корректировать жанровый и тематический принципы расположения стихотворений в более поздних изданиях Фета.
Следует отметить и наличие эпиграфов к некоторым стихотворениям (имеются в пяти, что составляет половину), их циклообразующую роль (в других стихотворениях раздела они отсутствуют). Во-первых, эпиграфы подчеркивают связь произведений с предшествующей литературной традицией (Пушкин, Гораций, Гете), молодой автор демонстрирует свое восприятие творчества предшественников. Сопоставляя текст того или иного эпиграфа с подлинником, приходим к выводу, что в большинстве случаев Фет цитирует их искаженно. Думается, на данный факт оказали влияние первые попытки переводческой деятельности молодого поэта. Во-вторых, прослеживаются общая тема эпиграфов и связанные с ней мотивы. Так, в эпиграфе к стихотворению «Солнце потухло, плавает запах…» акцентирован традиционный образ весны – время влюбленных, «расцвета» чувств. Следующий эпиграф из Горация демонстрирует чувства в развитии. В центре эпиграфа из Пушкина «Домик в Коломне» – образ прекрасной девушки, строки из стихотворения Гете посвящены приподнятому настроению лири- ческого героя, выраженному в его песне. Эпиграф к последнему стихотворению из 11 провозглашает всепобеждающую силу любви.
Таким образом, Фет как бы намечает пунктир, чередуя строки о любви, принадлежащие различным авторам, предпосылая их к 1 – 3 – 4 – 7 – 11 стихотворениям. Помимо циклообразующей функции пяти эпиграфов, выявляется наличие лейтмотива любви, что также подчеркивает единство содержательного плана рассматриваемых 11 стихотворений. Любовь в ранней лирике Фета представлена в романтическом свете и тесно связана с природными процессами (прием параллелизма): «солнце потухло», «воздух сладкий», «плавает месяц», «ночи певец» и т. д. Интересно, что на небольшом поэтическом полотне автор изображает разные «лики» любви: ссора влюбленных («суровый этот взгляд»), любовь-любование («Сними свою одежду дорогую…», «На балконе золоченном…»), переживания юноши, увидевшего крестьянскую девушку у ручья («Уж серпы на плеча взложив, усталые жницы…»).
Наконец, третий признак циклизации – наличие общего лирического героя-наблюдателя, перед глазами которого разворачиваются любовные коллизии, причем он сам влюблен: «И не простой восторг мне сладко льется в грудь…». Возлюбленная – «звезда» света для него, «моя душа». В седьмом стихотворении появится образ соловья, символизирующий любовь, а в следующем – образ цветника (= сада). Вспомним, что эти образы уже встречались в стихотворении «Лирического пантеона» «Мой сад». Образ расцветающего майского сада – частотный поэтический образ зрелого Фета, символ яркой и светлой любви. Именно в «Лирическом пантеоне» впервые Фет обратится к устойчивым в его лирике образам-символам: «красота», «соловей», «роза» и др. Стихотворение содержит философский подтекст осмысления единства и неразрывной связи прекрасного в природе, человеческих отношениях (любви) и искусства (поэзии). Следует также отметить, что каждое стихотворение из 11 оригинально в плане строфики и ритмики. По-видимому, молодой автор пытался найти свой излюбленный ритм, обозначить свою индивидуальную поэтическую манеру.
Итак, циклизация 11 произведений Фета из раздела «Лирические стихотворения» находит свое выражение в следующих призна- ках: общий принцип – отсутствие заглавий; наличие «пунктирных» эпиграфов; лейтмотив любви; наличие общего лирического героя.
Цикличность стихотворений Некрасова осмысливается в ином ключе. Как было замечено выше, сборник «Мечты и звуки» не имел разделов, он включал 44 стихотворения: 1839 г. – 40 стихотворений, 1838 г. – 4 (нехронологический принцип).
Особое внимание привлекают четыре баллады сборника, последовательно расположенные друг за другом (отметим, что эта особенность отличает и способ расположения трех сонетов – «Вчера, сегодня», через два стихотворения – «Загадка» и «Рукоять»). Данный факт говорит о зарождающихся признаках циклизации, которые во втором, действительно дебютном, сборнике 1856 года будут представлены более четко. Следующий признак циклизации – общность жанра. Общеизвестно, что жанр баллады не был характерен для более поздней лирики Некрасова. Однако, переосмыслив ее жанровые особенности, поэт создаст балладу иную, «современную» (подробнее об этом см.: [Скатов, 1986]). В юности же Некрасов испытал на себе романтическое влияние баллад Жуковского, к которому он проявлял немалый интерес [Скатов, 1969. С. 184–185]. Как отмечает один из исследователей творчества Некрасова, «можно относиться к этим ранним подражаниям Жуковскому как к школьному уроку, но не нужно забывать, что урок этот был пройден, и пройден добросовестно… Некрасов обошелся со сборником круто. Подобно Гоголю, он постарался скупить и уничтожить свое первое поэтическое детище. Бесспорно, что такая решительность действий была выражением внутренней готовности покончить с подобными стихами. Так закончилось первое непосредственное приближение к романтической балладе» [Скатов, 1986. С. 87].
Известно, что в начале ХIХ в. происходят заметные изменения в жанровой системе русской поэзии. Жанр баллады в 40-е гг. переосмысливается. Так, Белинский отмечал: «Под балладою тогда разумели краткий рассказ о любви, большею частию несчастной; могилу, крест, привидение, ночь, луну, а иногда и домовых и ведьм считали принадлежностью этого рода поэзии, – больше же ничего не подозревали» (Т. 7. С. 167).
Четыре баллады Некрасова «Ворон», «Рыцарь», «Водяной» и «Пир ведьмы» явились типичными романтическими произведениями. Авторы большинства романтических баллад утверждают приоритет мира воображаемого над реальностью. Фантастика романтической баллады вследствие этого избыточна, порой стираются контуры реальности, демоническое торжествует в повседневности. Сюжет баллады сжимает время, так как жизнь проходит ускоренно, события протекают прерывисто. Одновременно сужается и место действия, поскольку персонажи с немыслимой скоростью преодолевают даль пространств.
В ранних балладах Некрасова можно отметить наличие признаков так называемой «страшной» баллады. «Исходя из традиционной классификации баллад по сюжетам, “страшную” балладу относят к разновидности фантастической баллады. С этой точки зрения главным элементом “страшной” баллады выступает диалог балладного героя с ирреальным персонажем либо происшествие сверхъестественного характера, причем и диалог, и событие коренным образом меняют судьбу героя, впечатление “ужаса” можно признать главным структурообразующим элементом, разграничивающим “страшную” балладу с другими разновидностями балладного жанра» [Вакуленко, 1996. С. 4].
Итак, обозначим признаки данного жанра в балладе Некрасова «Ворон». Прежде всего, это нагнетание страха и тревоги при описании Ворона: голоден и зол, проклинает судьбу, безжалостен. Баллада совмещает в себе элементы двух видов «страшной» баллады: с одной стороны, утверждение могущества Дьявола и Зла и с другой - изображение преступления. Ворон, вмешиваясь в судьбу ратника, способствует его гибели. Некий фатализм заключен в следующих строках: «И, радуясь, вынул безжалостный вран / Несчастного жребий из урны…». И как следствие этого: «Вдруг конь на дыбы / Заржал... и свершилася воля судьбы...».
Следующая баллада «Рыцарь» также нагнетает тревогу, что выражено эпитетами: «могильные крики», «грустный напев», «говор унылый». Сюжет составляет эпизод оплакивания воином смерти (или гибели, о чем не уточняется - тайна) своей возлюбленной. В центре данной баллады - диалог балладного героя с ирреальным персона- жем, т. е. с мертвой девушкой, временное «оживление» которой возможно лишь благодаря магической функции кольца, подаренного ею при жизни воину. Как и в предыдущей балладе, здесь ярко выражен мотив неволи, подчинения обстоятельствам: «…мой друг, не дается / Нам прав уходить из подземных утроб...».
Баллада Некрасова «Водяной» изображает некий женский образ в «заточении» «подводных царств Дуная». Героиня «бесстрастна, мертва, холодна» в супружестве с Водяным, ее сердце «оковано... броней ледяной». Нужно отметить, что многие женские персонажи как Некрасова, так и Фета несвободны: Вероника заточена в лесу («Ворон»), Заира находится в «плену» смерти («Рыцарь») и т. д. Поэтому лирический герой готов, жертвуя собой, идти на подвиг спасения (освобождения) своей возлюбленной.
В балладе «Водяной» трагическое завершение встречи влюбленных предопределено («...готово меж тем / Ужасной грозы приближенье»): ратник и девушка погибают. В названных балладах коллизия возникает между тремя персонажами, создается любовный треугольник: Ворон - Тебальд - Вероника; Смерть - рыцарь - Заира; Водяной -ратник - дева.
«Страшная» баллада требует построения драматического конфликта, умения вести фабульный рассказ и вызывать эмоциональные эффекты при живописании кровавых развязок и могильной атрибутики. Как утверждают исследователи, последнее качество оказалось знаком некрасовской «кнутом иссеченной» музы.
Баллада «Пир ведьмы» явилась, по-видимому, переосмыслением народных поверий о духах, злых силах, оживающих по легенде ночью и исчезающих с первым криком петуха. Пляски и пир «сатанинской семьи» как основа лирического сюжета в очередной раз демонстрируют нам жанр «страшной» баллады. Однако в ней уже отсутствует любовная коллизия как в предыдущих балладах Некрасова. Меняется и архитектоника текста - баллада разделена на 4 пронумированные части, каждая по 3 катрена. Итак, циклизация у Некрасова характеризуется следующими признаками:
-
1) расположением текстов группами общей тематики или сюжетики; звеньями;
-
2) общностью жанра: балладный комплекс-раздел;
-
3) варьированием мотивов, создающих определенный ритм.
Отметим, что Фету также свойственна опора на различные линии балладной традиции. Баллады открывают «Лирический пантеон» и представлены отдельным разделом. Подчеркнем, что от традиции баллады «ужаса» в лироэпику Фета перешло ощущение роковой предначертанности человеческой жизни, которая достигается специфическими художественными приемами. Среди них – предчувствие беды, гадание, мотив тайны и двойной мотивировки происходящего. Эти приемы «создают и истолковывают исключительные психологические составляющие лирического героя, который и является предметом изображения» [Вакуленко, 1996. С. 14].
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что в целом рассматриваемые баллады и стихотворения с балладными мотивами Фета и Некрасова нельзя обозначить как оформившиеся циклы в чистом виде, но структурообразующие элементы циклизации просматриваются в них достаточно четко. В общей архитектонике первых сборников поэтов эти элементы составляют основы книжных контекстов, «оцельняющие» (по выражению В. Шкловского) художественное пространство первых сборников.
Таким образом, уже в «Лирическом пантеоне» и в «Мечтах и звуках» проявились основные тенденции будущего зрелого творчества поэтов: «собирание» Фетом книг «кустами» (выражение А. Кушнера) и деление Некрасовым книг на разделы, внутри которых появятся циклические структуры.