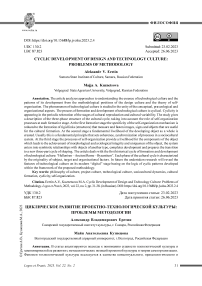Циклическое развитие проектно-технологической культуры: проблемы методологии
Автор: Еретин А.В., Кузнецова М.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются подходы к пониманию сущности технологической культуры и закономерностей ее развития с методологических позиций проектной культуры и теории самоорганизации. Феномен технологической культуры исследуется в единстве концептуального, праксеологического и организационного аспектов. Процесс становления и развития технологической культуры имеет циклический характер. Цикличность проявляется в периодической повторяемости стадий культурного воспроизводства и культурной изменчивости. В работе дается описание трехфазной структуры культурного цикла с учетом роли процессов самоорганизации на каждой формообразующей стадии. На первой формообразующей стадии специфика действия механизма самоорганизации сводится к образованию жестких связей (структуры), измеряющих и скрепляющих полезные для культурной формации образы, знаки и предметы. На втором этапе создается фундаментальное средство существования развивающегося объекта в целом. Как правило, это фундаментальный принцип, который задает когерентность, синхронизацию процессов в социокультурной системе. На третьем этапе процессы самоорганизации обеспечивают средствами существования составляющие части объекта, благодаря чему происходит достижение морфологической и аксиологической целостности и уникальности объекта, система вступает в симбиотические отношения с объектами другого вида, завершает развитие и подготавливает переход к новому трехчастному циклу формообразования. В статье рассматривается первый исторический цикл становления и развития технологической культуры: «Эллинизм - Древний Рим - Византия». Каждая фаза культурного цикла характеризуется своеобразием предметных, целевых и организационных факторов. Предпринятое исследование в перспективе позволит выявить особенности технологической культуры на ее современном «цифровом» этапе, исходя из логики циклических закономерностей, разработанных в рамках предложенной методологии.
Философия культуры, проектная культура, технологическая культура, социокультурная динамика, культурная формация, цикличность, самоорганизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149143704
IDR: 149143704 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.2.4
Текст научной статьи Циклическое развитие проектно-технологической культуры: проблемы методологии
DOI:
Цитирование. Еретин А. В., Кузнецова М. А. Циклическое развитие проектно-технологической культуры: проблемы методологии // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 2. – С. 31–38. – DOI:
Философия ориентирует нас на осмысление сущности и закономерностей развития культуры с тем, чтобы прояснить сущность самого человека, понять, как и почему меняются его ценностные предпочтения и принципы взаимодействия с окружающим миром. Культура определяет уровень развития общества и создает возможности для творческой самореализации личности. В современной техногенной цивилизации складывается специфический тип мышления человека как субъекта преобразовательной, культуротворческой деятельности, а именно – проектное мышление, возрастает интерес к феномену технологической культуры, закономерностям ее развития.
В зависимости от факторов, определяющих развитие культуры и общества, а также характера протекания процесса социокультурных изменений, в науке определяются два типа социокультурной динамики – эволюционный и циклический [Sorokin 1957]. Эволюционизм, как известно, предполагает линейное поступательное развитие системы в процессе ее адаптации к внешним условиям среды, а цик-лизм акцентирует внимание на устойчивой повторяемости стадий исторической культурной социодинамики [Демин 2012]. Как справедливо заметил А.Я. Флиер, «культурологической наукой еще не создано фундаменталь- ной теории культурного воспроизводства, как и фундаментальной теории культурной изменчивости… Эти теории могли бы ответить на многие вопросы; но они еще ждут своих разработчиков» [Флиер web]. Методология системного исследования, на наш взгляд, позволяет сочетать оба подхода, рассматривая линейность и цикличность как две взаимодополняющие тенденции в функционировании и развитии сложных систем. Рассмотрим это на примере технологической культуры.
С одной стороны, технологическая культура может трактоваться как разновидность универсальной культуры, обладающая своим ценностным измерением и специфической структурой. Понятие «технологическая культура» введено в научный оборот в середине XX в. А. Молем как констатация возросшего влияния науки и техники на все сферы жизнедеятельности человека. Активность человека, подкрепленная арсеналом технических средств, должна быть соизмерима с уровнем ответственности за свои преобразования, поэтому актуализируется задача разработки социально-культурных регуляторов научнотехнической и экономической деятельности человека.
С другой стороны, технологическую культуру можно рассматривать как составляющую общей, универсальной культуры. Например, в работах М.С. Кагана культурой выступает вся полнота биологически не детерминированных качеств человека, способов его деятельности и их предметное воплощение [Каган 2003]. Тогда область технологической культуры – все знания и технологии, с помощью которых осуществляется преобразовательная деятельность человека. И в данном контексте можно выделить три направления исследований технологической культуры.
Первое направление считает технологическую культуру «фундаментальным компонентом общей культуры на современном этапе общественного развития, определяющим мировоззрение и самопонимание человека и общества» [Баженов 2011, 338]. Второе направление рассматривает технологическую культуру как совокупность достигнутых технологий в материальном и духовном производстве, определенную фазу цивилизационного развития человечества. Третье направление характеризует технологическую культуру как уровень взаимодействия проектировщиков, практиков, теоретиков и организаторов, объединенных в комплексный объект, исследующих явления действительности с экономических, проектно-технологических позиций в рамках понятий проектной культуры [Archer 1979].
Философ и теоретик проектной культуры К.М. Кантор рассматривал проектность в качестве атрибутивного свойства бытия. Проект при таком подходе «выступает «хранителем формы», образованной системой структурных отношений, более или менее безразличных к их вещественному наполнению. А проектирование есть тот «механизм», который поддерживает «вечное» существование определенной формы бытия в бесконечной смене ее неустойчивых индивидуальных проявлений» [Кантор 2001, 42].
Ученые научно-проектной школы ВНИИ технической эстетики Л.А. Кузьмичев, В.Ф. Сидоренко, А.Л. Дижур, Л.Б. Переверзев, А.Г. Устинов, Д.Н. Щелкунов и др. в понятии «комплексный объект» дизайна представили «форму-структуру» через координацию результатов профессиональной деятельности трех типов проектировщиков [Кузьмичев и др. 1987, 152]. Теоретик-концептуалист формулирует творческую идею благодаря умению охватить и синтезировать интеллектом разрозненные части. Предметник-практик чувственно переживает явления вещного мира, подготавливая содержание проекта. Ди-зайнер-оргпрограммист осуществляет погружение проектного мышления в так называемую «программирующую среду», в которой личность получает накопленный человечеством духовный опыт в процессе диалога и коммуникации. Расплывчатость определения «ди-зайнер-оргпрограммист» устраняет В.И. Пузанов, представив в роли организатора культурных обменов между теоретиками и практиками дизайна творческий коллектив, сплоченный по типу ансамбля и способного к саморазвитию по аналогии с этносом.
В.И. Пузанов, анализируя динамику развития мирового дизайна, выявил существование трех циклов в структуре проектной деятельности, определяемых характером взаимных обменов профессиональной информацией между теоретиками, практиками и организаторами. Три проектно-культурные формации образуют полный культурный цикл развития дизайна. При этом каждый цикл оформляет динамику предметных, целевых и организационных факторов, составляющих структуру комплексного объекта [Пузанов 1992, 1]. Считаем целесообразным применить трехфазную структуру культурного цикла при изучении динамики технологической культуры в целом.
В циклическом развитии технологической культуры можно выделить несколько фаз или по аналогии с жизненным циклом биологических систем, или с позиции господствующего мировоззрения, мы же предлагаем рассмотреть в качестве критерия цикличности роль самоорганизации в формообразующем процессе. Целевые, предметные и организационные факторы развития отличаются обилием признаков и переменны, но механизм самоорганизации универсально влияет на процессы формообразования в сложных системах (как биологических, так и социокультурных).
На первой формообразующей стадии специфика действия механизма самоорганизации сводится к образованию жестких связей (структуры), измеряющей и скрепляющей полезные для системы образы, знаки и предметы. На втором этапе создается фундаментальное средство существования развиваю- щегося объекта в целом. Как правило, это фундаментальный принцип, который задает когерентность, синхронизацию процессов в социокультурной системе. На третьем этапе процессы самоорганизации обеспечивают средствами существования составляющие части объекта, благодаря чему происходит достижение морфологической и аксиологической целостности объекта, система вступает в симбиотические отношения с объектами другого вида, завершает развитие и подготавливает переход к новому трехчастному циклу формообразования.
В соответствии с выбранным критерием рассмотрим трехфазный исторический цикл становления технологической культуры: «Эллинизм – Древний Рим – Византия».
Технологическая культура берет начало в культуре Эллинизма, где вещь впервые стала восприниматься как результат действия не только богов, но и человека. В предшествующий исторический период общей культуры люди считали вещи богами, приходить в мир которым помогают человеческие руки. В этот период быт был сакрализован-ным, мифологическим. В оболочке старого, сакрального зарождается новое мировоззрение – представление о мире вещей человека. Формируется смысловое равенство человека и вещи, при котором они могли оказывать судьбоносное влияние друг на друга. По замечанию Л.И. Акимовой, «вещи-герои», наполовину божественные, вторую половину отдавали человеку, превращая его в «человека-героя», придавая ему созидательные силы [Акимова 1994, 53] .
В культуре Древнего Рима сакральные функции вещей перешли к стихиям природы, носителями которых являлись умершие предки римлян. «Вечным хранителем порядка вещей, – пишет Л. Акимова, – выступали именно те потусторонние силы, которые олицетворены в домашних святынях атриума. Их представляли маски предков» [Акимова 1994, 69]. Домашний атриум имел комплювий, из которого вода стекала в цистерну под полом, и имплювий, проем в крыше дома, что в совокупности представляло собой «мировую ось», или «древо жизни». Центр римского дома, таким образом, имел контакты и с миром богов, и с подземным миром умерших предков.
«Божественная смерть» вещей, однако, подарила им земную жизнь: теперь человек мог наслаждаться естественной красотой плода, мягкой одеждой, радоваться удобной посуде. Период приобретения вещью исключительно потребительских свойств для человека справедливо считать технологическим истоком проектной культуры.
В Византийской культуре произошла персонификация стихий природы в единый образ Бога-Человека и создание Церкви как Дома Божьего на земле. «Мировую ось» теперь представляла система Домов: «Дом человека – Церковь – Небесный Иерусалим». Маска предка уступила место иконе с ликами святых. Вещи стали подразделяться на плотские, материальные предметы, на душевные, ценностные символы и на культовые, духовно-образные вещи. Деятельность «деловых» людей была управляема единым сводом божественных законов, содержащихся в профессиональных кодексах и уставах, которые регламентировали всю производственную, административную и идеологическую жизнь сообщества. Кроме широко известных цеховых ремесленных и монастырских монашеских объединений, появившихся в IX в., аналогичные организации имели правоведы, воины, землевладельцы и другие трудовые сообщества византийских граждан.
-
I. Эллинистическая культурная формация:
-
1. Концептуальная (целевая) фаза.
-
2. Предметная (практическая) фаза.
-
3. Организационная (предметно-целевая) фаза.
В эпоху Эллинизма происходит понимание того, что человек после смерти не исключается полностью из мира живых, как это было в предшествующие эпохи, он теперь только наполовину принадлежит земле, которой отдают его тело в урне с прахом, а дух же, рожденный небом, к нему же и возвращается. Божественная сущность человека воплощается в новое искусственное тело – памятник. Весь вещный мир, все семь чудес Света, появившиеся в эпоху Эллинизма, представляют собой памятник, в котором живет бессмертный дух человека, в теле, создаваемом самим человеком. Знания и технологии становятся интеллектуальным памятником духовности человека. В военном деле македонская фаланга была непобедима не только из-за своей технической эффективности, но, в основе своей, благодаря вере солдат в то, что новый порядок есть памятник их совокупному боевому духу.
Чувственная сфера деятельности человека была скована присутствием и влиянием на него божественных вещей. Человек даже при развлечениях общался не с другим человеком, а с вещами. Вещь и человек были связаны между собой единым циклом мифологического бытия, где нет смерти, а есть смена старой формы на новую жизнь. Поэтому греки даже в своих развлечениях и отдыхе были собраны и ответственны, так как общались, по сути, с вещью сакральной.
У бога смерти и возрождения Диониса маска выполняла и организационную функцию, указывая на сопричастность к миру посвященных. Тема «человек-маска» раскрывалась в знаках и геометрических фигурах, построенной на них речи. Открытие так называемых «конических сечений» (пересечение плоскостью конуса) и обнаружение с помощью этой операции множества уже известных фигур (окружности, эллипса, гиперболы, параболы, перспективы, возможность преобразования в полусферу и цилиндр) и их символическое выражение в евклидовой и неевклидовой (проективной) геометрии получило широкое развитие в культовой архитектуре. Геометрия конических сечений явилась той проектной «формой-структурой», которая дала возможность организовать непротиворечивую связь божественного и человеческого, заложив основы освобождения человека от космологического давления вещей.
-
II. Древнеримская культурная формация
-
1. Концептуальная (целевая) фаза.
-
2. Предметная (практическая) фаза.
-
3. Организационная (предметно-целевая) фаза.
Жизнь древнего римлянина, особенно в период военных походов, была тяжела и изнурительна. Отношение к своему труду и его результатам было напряженное и ответственное – «не посрамить бы предков», поэтому все делалось добросовестно и аккуратно. Благодаря этой идее римляне вносили рациональное начало во все продуктивные сферы своей жизни, не только в военное и строительное дело, но и в религию, повседневность, быт, образование и воспитание. В частности, римляне были прекрасными мастерами, инжене- рами и архитекторами, смогли создать строения (многоярусную аркаду, амфитеатр, крестово-купольную архитектуру), которые до них не видел мир, а также были ловкими политиками и юристами, построили гибкую и прочную систему «римского права», адекватно регулирующую изменчивость событий общественной жизни.
С другой стороны, в чувственной деятельности, в развлечениях и отдыхе римляне были эмансипированы и распущены, капризны и избирательны, ведь самое лучшее со всего мира стекалось в Рим. Высокие художественные ценности не пленяли, но возбуждали, приятно раздражая пресытившиеся чувства римлян. Из удавшихся речей греческих философов составлялись попурри, греческие танцы, скульптуры, кувшины были легки для восприятия и создавались для хорошего настроения. Впервые создана индустрия развлечений для самой персоны человека, которая нашла свое наиболее яркое воплощение в термах и амфитеатрах.
Маска обеспечила возможность организовать продуктивные связи между обремененным культом предков трудом и беззаботной жизнью в мире чувственных развлечений. «В Риме маска, – пишет Л. Акимова, – становится непременной принадлежностью быта и знаком всеобщих превращений в мире, где царят Фортуна и Рок… в этом взаимопереплетении культа и быта предстают все явления римской жизни, и в том числе такие фундаментальные, как восприятие мира в виде театра, где люди-актеры разыгрывают драму жизни» [Акимова 1994, 69].
Тема «мир в маске» раскрывалась например, в превращении одних вещей в другие (вареная свинья была начинена живыми дроздами), естественное сделать искусственным (подаваемые кушанья и приборы делались из камня, глины, а сидящие за столом гости делали вид, что они обедают) и пр. Тема «мир в маске» сопрягалась с темой «мир без маски» и темой «связи двух миров». По этой причине особо ценным у римлян становиться стеклянный сосуд, через который одновременно видны две его стороны – внешняя и внутренняя.
Мы считаем, что графическая разметка на фресках стен римских домов, в так называемых «помпейских стилях», сделанная в четырех вариантах изображения пространства интерьера, является прямым смысловым аналогом стеклянной прозрачной стенки сосуда, которая соединяет два мира – «мир в маске» и «мир без маски». Эта графическая разметка двух пространств, связывающая в целое внешнюю форму и вещество ее заполняющее получила название «перспектива». Происходит технологическое воплощение открытых в предшествующем цикле сакральной геометрии «конических сечений» в пространственной структуре зданий и сооружений, таких как, многоярусная аркада, амфитеатр, крестовокупольная храмовая архитектура. В Древнем Риме «перспектива» является проектной «формой структурой» и канонизирована в храмовой архитектуре.
-
III. Византийская культурная формация.
-
1. Концептуальная (целевая) фаза.
-
2. Предметная (практическая) фаза.
-
3. Организационная (предметно-целевая) фаза.
Жизнь в Византии регулировалась строгим соответствием внутреннего императива поведения гражданина социальным нормам мирового порядка, определенным, в свою очередь, Библией, императивом поведения Бога-Человека – Иисуса Христа. Каждый верующий осознал духовную часть своей жизни, у него появилась возможность оперировать религиозными идеями в поисках справедливых и продуктивных отношений между собой и обществом. Прежние римские специализированные трудовые сообщества стали превращаться в цеховые предприятия с единым нравственно-правовым законом поведения мастера и подмастерья. Цеховой устав регламентировал и внешние отношения с другими цехами. Общей концепцией производственных цеховых коллективов был поиск религиозно оправданных средств существования.
Появились первые ученые – ими стали монахи-алхимики. Византийцы впервые изобрели и усовершенствовали строительные технологии (например, при возведении храма Св. Софии). Впервые использована сила пара, широко употреблялись водяные мельницы, появились механические часы и блочные механизмы, гвоздяные подковы и стремена, был изобретен «греческий огонь», организовано производство шелка, Лев Математик изобрел систему маяков, для чего впервые использовал язык алгебраических выражений, началось изготовление бумаги и транслитерация текстов и еще много других фундаментальных инженерно-технических открытий, скрытно подготовившие основания для широкого движения технологической культуры [Кривов 2017].
Чувственно-образная деятельность византийца была направлена на саморазвитие и духовное совершенство своей личности через постижение божественной красоты. На место внерационального опыта проявления эмоций пришла первая эмпирическая эстетическая система Августина, в которой мир представляется «произведением Бога, высшего Художника», а «в онтологической иерархии прекрасное выступает одним из главных показателей бытийственности» [Бычков 2018, 141]. Ремесленник стал понимать различие между внеэстетическим утилитарным производством вещей и созданием изделий по законам красоты. В порождении красивой предметной среды он находил удовлетворение от волнующего его чувства радости.
Организационная субкультура византийских императоров и епископов стала иметь дело с целостными духовно-профессиональными сообществами граждан. Римские актеры стали византийскими чиновниками. Изменилась и «перспектива» как форма-структура связей между практиками и учеными. В новом графическом выражении она стала называться «обратной перспективой», так как состояла из двух римских концентрических перспективных разметок (схем), скоординированных между собой так, что между ними возникал эффект расширения размеров в глубину изображения, при соблюдении правил прямой перспективы внутри самих разметок. Этот эффект особенно заметен во фресковой живописи и иконописи. Новое понимание «перспективы» представлено в храмовом пространстве в виде двух ярусов куполов, как, например, в соборе Св. Софии в Константинополе. Римская космическая тема «мир в маске – мир без маски – связь двух миров» получила свое развитие в системе отношений «мир
Бога – мир под Богом – связь двух миров». Вертикаль «Вознесения» человека из мира земного к миру горнему некоторые исследователи рассматривают как новое выражение «мировой оси» и как исходную абстракцию научной поступательной модели мира.
Завершает полный цикл проектно-культурных формаций, берущих начало от эллинизма и Древнего Рима, этап симбиоза культур христианских с культурой языческой, подготавливающий переход к новому культурному циклу.
Таким образом, исследование процесса становления технологической культуры с использованием формационной (верификационной) проектно-культурной теории В.И. Пузанова позволило выявить соответствие механизмов формообразования в дизайне принципам самоорганизации в универсальной культуре и определить дальнейшие перспективы в исследовании темы социокультурной цикличности. Прежде всего, это разработка в контексте данной методологии последующих культурных циклов «Итальянское Возрождение – Новое Время – Промышленная революция XVIII – сер. XX в», выявление особенностей технологической культуры на ее современном «цифровом» этапе и построение перспективной модели культурной динамики на ближайшее столетие.
Список литературы Циклическое развитие проектно-технологической культуры: проблемы методологии
- Акимова 1994 - Акимова Л.И. Античный мир: вещь и миф // Вопросы искусствознания. 1994. №2 2. С. 53-93.
- Баженов 2011 - Баженов В.М. Технологическая культура как исторический тип культуры // Фундаментальная наука вузам. 2011. № 2. С. 336-340.
- Бычков 2018 - Бычков В.В. Имплицитная эстетика. Патристика // Вестник культурологии. 2018. № 2. С. 139-149.
- Демин 2012 - Демин И. О. Статика и динамика культуры // Аналитика культурологии. 2012. № 2 (23). С. 149-152.
- Каган 2003 - Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. В 2 кн. Кн. 1. Историографический очерк, проблемы современной методологии. СПб.: Петрополис, 2003.
- Кантор 2001 - Кантор К.М. Проектность мира, культуры, истории // Декоративное искусство. 2001. №> 1. С. 41-46.
- Кривов 2017 - Кривов М.В. Византийская культура. СПб.: Алетейя, 2017.
- Кузьмичев и др. 1987 - Кузьмичев Л.А., Сидоренко В. Ф., Щелкунов Д.Н. и др. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа. М.: ВНИИТЭ, 1987.
- Пузанов 1992 - Пузанов В.И. Взаимодействие интеллекта и мастерства как проблема культурных формаций в дизайне: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1992.
- Флиер web - Флиер А.Я. Культурная социодинами-ка: многообразие возможностей [Культура культуры. 2016. № 4] // http://cult-cult.ru/ culture-of-chaos/
- Archer 1979 - Archer B. The Three Rs // Design Studies. 1979. Vol. 1, № 1. P. 17-20.
- Sorokin 1957 - Sorokin P. Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships. Boston: Sargent, 1957.