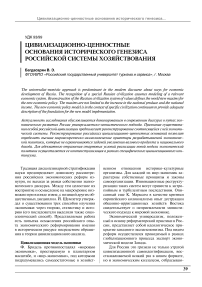Цивилизационно-ценностные основания исторического генезиса российской системы хозяйствования
Автор: Багдасарян В.Э.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Материалы пленарного заседания XII международной научно-практической конференции "Наука - сервису"
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования обусловливается доминированием в современном дискурсе о путях экономического развития России универсалистско-монистического подхода. Признание существования особой российской цивилизации предполагает реконструирование соотносящейся с ней экономической системы. Реконструирование российских цивилизационно-ценностных оснований позволит определить высшие мировоззренческо-аксиологические ориентиры разрабатываемой экономической политики, которые не ограничиваются задачей увеличения валового продукта и национального дохода. Для адекватного отражения стартовых условий реализации новой модели экономической политики осуществляется ее контекстуализация в рамках специфического цивилизационного кон тинуума.
Короткий адрес: https://sciup.org/140209759
IDR: 140209759
Текст научной статьи Цивилизационно-ценностные основания исторического генезиса российской системы хозяйствования
Багдасарян В. Э.
ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва
The universalist-monistic approach is predominant in the modern discourse about ways for economic development of Russia. The recognition of a special Russian civilization assumes modeling of a relevant economic system. Reconstruction of the Russian civilization system of values defines the worldview maxims for the new economic policy. The maxims are not limited to the increase in the national produce and the national income. The new economic policy model is in the context of specific civilization continuum to provide adequate description of the foundation for the new model implementation.
Актуальность исследования обусловливается доминированием в современном дискурсе о путях экономического развития России универсалистско-монистического подхода. Признание существования особой российской цивилизации предполагает реконструирование соотносящейся с ней экономической системы. Реконструирование российских цивилизационно-ценностных оснований позволит определить высшие мировоззренческо-аксиологические ориентиры разрабатываемой экономической политики, которые не ограничиваются задачей увеличения валового продукта и национального дохода. Для адекватного отражения стартовых условий реализации новой модели экономической политики осуществляется ее контекстуализация в рамках специфического цивилизационного континуума.
Традиция дисциплинарной стратификации науки предопределяет доминанту рассмотрения российских экономических реформ изнутри, не выходя за рамки собственно экономического дискурса. Между тем целостное их восприятие и осмысление на макроуровне возможно при взгляде извне, с позиций других общественных дисциплин. Й. Шумпетер утверждал о существовании трех способов изучения экономики: через теорию, статистику и историю (его последователи выделяли также социологический способ). Представляемая работа есть попытка осмысления российского опыта экономического реформирования именно в историческом ракурсе посредством обращения к теории цивилизационного анализа.
Цивилизационная модель экономики
Ф. Бродель противопоставлял «мировую экономики», простираемую в планетарном масштабе, и «мир-экономики», под которыми подразумевались самодостаточные в хозяйст- венном отношении историко-культурные организмы. Для каждой из мир-экономик характерны собственные принципы и законы самоорганизации. Инновационные реструктуризации таких систем могут привести к энтропийным и турбулентным последствиям. Описанный еще К. Марксом в качестве критики европейского колониализма опыт деструкции общинно-ирригационных хозяйств востока свидетельствует о неприемлемости монистического подхода к мировой экономике.
Экономический универсализм, положенный в основу реформаторской практики в России, представляет собой идеологическое прикрытие западного экспансионизма. Под видом реформ осуществлялся проводимый в рамках глобализационного процесса экспорт экономической модели Запада.
Для России это грозило не только утратой цивилизационной самоидентификации, восстанавливаемой всякий раз в новом формате, но и экономическим коллапсом, отбрасываю- щим ее на вторичные позиции в мировом соперничестве держав. Русская история развивалась подобно маятнику, по ходу которого парадигма западнических реформ неизбежно приводила к контреформистской консервативной инверсии. Объективно реформаторская практика являлась итогом накопления в обществе внесистемного инновационного потенциала. Контрреформы же служили механизмом цивилизационного отторжения. Характерно, что периоды наиболее интенсивного экономического развития России соотносились именно с контрреформаторской инверсией.
Мировоззренческая мотивация труда
Любая экономическая модель представляет собой в своем генезисе преломление определенной мировоззренческой парадигмы, а вовсе не наоборот, как это преподносится приверженцами смитовской линии интерпретации общественных систем. Деиделогизация экономики России неизбежно ведет к ее космополитизации, что, в свою очередь, выливается в компрадоризацию. Поэтому национальная безопасность напрямую сопряжена с выдвижением идеологемы «национальной экономики». Так, послевоенное поколение японцев, воспринимая экономическую деятельность как средство достижения цивилизационного реванша за унижение второй мировой войны, отказывалось принципиально от покупки американских товаров, отдавая предпочтение собственному товаропроизводителю, создав тем самым инвестиционную базу для последующего торжества Японии над США.
Обеспечивающий цивилизационную устойчивость общественно ориентированный труд имеет, как правило, религиозную природу. Монастырские хозяйства были, как известно, наиболее эффективными в царской России. в этом смысле секуляризационное реформирование, давшее единовременную финансовую выгоду, имело крайне негативные последствия в мегаперспективе. Тот факт, что крупный капитал в императорский период работал на российскую экономику, а не вывозился вовне во многом обусловливался старообрядческим происхождением. Даже большевики репродуцировали свою экономическую систему в соответствии с архетипом монастырского общежи-тельства. Сейчас труд (не только в России, но и мире) десакрализован. Духовный тип «инвестора» окончательно вытеснен «кредитором». Перспектива качественного экономического подъема видится в реанимации религиозных форм хозяйственной деятельности. Пример такого рода предоставляет предложенная революцией Мэйдзи (характерно, что она называется именно революцией, а не реформой) син-тоизация японской экономики.
Монополия внешней торговли
Цивилизационные войны ведутся не только в форме прямого вооруженного столкновения, но и в иных коммуникационных ракурсах, в частности в сфере экономических взаимоотношений. Рассмотрение мировой экономики через призму концепта о цивилизационных войнах позволяет провести переоценку всего опыта российского реформирования, преодолеть распространенную в либеральных кругах иллюзию о взаимовыгодности экономического сотрудничества.
По отношению к странам атлантистского Запада зачастую используются дефиниции «то-ласократическая», «торговая», «экономическая» цивилизация. Экономика в них занимает высшую ступень общественных приоритетов, тогда как в идеократических цивилизационных системах, она играет вторичную, подчиненную роль. Можно ли рассчитывать на победу в торговле над торговой цивилизацией? Свободная экономическая конкуренция для России с Западом бесперспективна. Это заранее проигранная война, ведомая по чужим правилам. Поэтому интеграция в мировой рынок как целевая установка российского реформирования является принципиальной стратегической ошибкой (если не злым умыслом реформаторов). Даже не беря во внимание цивилизационный контекст, а лишь статистические показатели экономики, очевидно, что открытый рынок выгоден для стран экономически развитых и противопоказан отстающим. Для России же он просто губителен в виду определяемой спецификой географического положения наивысшей по мировым меркам себестоимости труда.
Закрытость ряда традиционных сообществ было естественной прагматической реакцией на западной торговый экспансионизм. Расконсервация их для внешней торговли шла симметрично с процессом колонизации. во имя утверждения принципа «свободы торговых отношений» Запад зачастую прибегал к применению военной силы. Китайская империя оказалась, как известно, принудительно интегрирована в мировой рынок посредством «опиумных войн», развязан- ных под предлогом защиты прав торговцев наркотиками. Таким образом, принуждение к свободному товарообмену представлялось равнозначным политическому завоеванию. Между тем сам Запад, сталкиваясь с экономической конкуренцией, вопреки либерти-анским идеологемам, прибегает зачастую к «антидемпинговому» механизму.
Для российского же рынка по существу любой западной товар можно классифицировать в качестве демпинга. в экономической истории Запада существовали и экспортные табу, например за нарушение запрета на вывоз из Англии ткацких станков до 1842 г. применялась смертная казнь. Так что свобода мирового рынка есть не более чем идеомиф, используемый для подчинения более слабых в экономическом отношении систем. Поэтому Россия должна добиваться свободного рыночного обмена со странами ближнего зарубежья, но воздерживаться от его установления во взаимоотношениях с ЕС, Северной Америкой и дальневосточными экономическими гигантами.
Исторически основой поддержания национальной безопасности России выступала монополизация внешней торговли. в царский период государственная монополия не будучи абсолютизирована распространялась тем не менее на наиболее прибыльные статьи товарообмена. Да и организованное в гильдии российское купечество находилось на царской службе и вынуждено было блюсти ни только частные, но и общенациональные интересы. Принципиальное отличие «нэповского» и «перестроечного» экономического реформирования при всей частоте проводимых между ними параллелей заключалось в сохранении в первом случае монополии внешней торговли при постепенном отказе от нее во втором. Различие в последствиях обеих реформистских кампаний позволяет оценить торговую монополизацию как главный фактор поддержания жизнеспособности российской «мир-экономики».
К подрыву экономической системы вели попытки сделать российские денежные знаки конвертируемой валютой. всякий раз последствием соответствующего финансового реформирования оказывался стремительный отток конвертируемой валюты за пределы государства. Кстати, впервые золотая монета была запущена в России в свободное обращение правительством семибоярищины. в преддверии войны 1812 г. происходил стремительный вывоз золота из страны, что побудило Александра I упраз- днить золотой рубль. Популяризируемая ныне реформа С. Ю. витте по переходу к золотому монометаллизму, конечно, свидетельствовала о достигнутом российской экономике высоком потенциале. Но начавшийся вследствие ее осуществления массовый отток золота за границу минимизировал этот потенциал, приведя в скором времени к необходимости иностранного кредитования. Современная же финансовая политика, при которой в основу денежной системы страны положена валюта иностранного государства, являющегося к тому же главным геополитическим противником, вообще беспрецедентна по отношению к предшествующему историческому опыту России (аналог можно обнаружить только в чеканке русских клейм на иоахим-таллерах).
Принцип автаркийности
Интеграция в мировую экономическую систему международного разделения труда предполагает установление внешней зависимости национальных экономик. Любой производственный сбой в одной из стран неизбежно приводит к кризису связанного с ним производства в другой. Уровень влияния транснациональных корпораций делает возможным инициирование экономического кризиса едва ли не в любой точке планеты. Поэтому специализация «мир-экономик», приносящая, казалось бы, определенные дивиденты, существенно снижает уровень национальной безопасности.
Несколько примеров. Автаркийной Спарте стоило перекрыть пути доставки в Аттику причерноморского хлеба, чтобы принудить экономически специализированные Афины к признанию своего поражения в Пелопонесской войне. Двукратное сокращение экспорта нефти в 1905 г., вызванное не только забастовочным движением, но и позицией западных импортеров, является до сих пор неучтенным фактором первой русской революций, едва не приведшей к демонтажу самодержавного строя. С началом Первой мировой войны обнаружилось, что в значительной степени экономика России зависела от поставки германских промышленных товаров, включая ряд элементов необходимых в производстве вооружения. Ориентированность на нефтяную трубу обернулась для Советского Союза при инициированном американо-саудитской политической игрой резком падении в 1986 г. цен на нефть экономическим коллапсом горбачевской эпохи. Характерно, что из всех союзных республик сильнее все- го в процессе суверенизации экономически пострадала Армения, хозяйственная система которой являлась наиболее специализированной. Однако уроки из опыта распада СССР новым поколением российских реформаторов не были вынесены. Следует только догадываться, к чему приведет нефтяная ориентация экономику современной России при неизбежном, учитывая динамику научно-технического прогресса, переходе мирового сообщества на новые, более дешевые и доступные виды энергообеспечения.
Напротив, при поддержании относительно изоляционистской системы хозяйствования Россия обнаруживала свою устойчивость от импульсов внешних потрясений. Поразивший весь мир крупнейший за всю историю экономический кризис 1929 г. остановился, как известно, у границ Советского Союза. Большевистская индустриализация производила особо яркое впечатление на фоне глобальной производственной деструкции Запада.
Экономически неуязвимыми могут быть только автаркийные системы. Понятно, что ни одно из современных государств мира не способно в настоящее время полностью само-изолироваться. Однако природные ресурсы России позволяют ей, пожалуй, единственной в мире, рассчитывать на это в принципе. Она потенциально самодостаточна. Для реализации данного потенциала необходима взамен губительного курса на интеграцию с Западом разработка программы автаркизации. Автаркий-ная Россия может стать ориентиром для ряда стран, не способных самостоятельно противостоять в силу ресурсной ограниченности глобализационной нивелировке их национальных экономик. Это означало бы восстановление в мировом масштабе альтернативной международной экономической системы. возможно, поэтому именно Россия (даже не Китай), всецело следующая сегодня в фарватере западной политики, продолжает вызывать наибольшее неприятие в мондиалистских кругах. Только ее территориальное расчленение гарантирует от выдвижения реальных экономических альтернатов глобализации.
При кажущейся экономической мощи современный Запад в случае оказания ему серьезного геополитического противодействия будет крайне уязвим. «Сервисная революция» явилась прямым следствием «деиндустриализации» западной экономики, перемещения товарного производства в страны третьего мира. При реализации сценария глобального политического потрясения, актуализации противоречий «постиндустриального общества» с реальными производителями материальных благ сложившаяся система международного разделения труда грозит для сервисного Запада, оставшегося без собственной промышленной базы, тотальным крахом. Тогда появляется шанс у выведенной в силу географических особенностей (определяющих нерентабельность вывода в нее западной индустрии) за рамки данного антагонизма автаркийной России.
Этатизация
Появившееся в русском языке с начала XVIII в. слово «реформа» подразумевало первоначально сокращение армии. При всей кажущейся курьезности данного перевода он довольно точно отражал специфику российского реформирования. Ее осуществление определялось парадигмой разгосударствления экономики. Между тем вне государственного фактора российская экономическая система попросту не могла функционировать. все ее великие свершения были прежде всего свершениями государства. Устрани государство — и вся система мгновенно разрушилась бы, перешла в состояние турбулентности («смуты»). Поэтому периодически проявляющийся синдром реформирования объективно подрывал экономический потенциал России. Парадоксально: актуализация феномена российского бунта приходилась именно на периоды реформ, отнюдь не обеспечивающих, вопреки своему функциональному предназначению, общественного согласия.
Даже крепостное право в России в противоречии с марксисткой схемой вводилось не как характерное для Западной Европы установление частной зависимости лиц, а как выражение общегосударственных всесословных задач. Русское «закрепощение», согласно интерпретации в. О. Ключевского, препятствовало переходу крестьян и ремесленников в статус холопов, находящихся вне рамок «государственного тягла». Национальные интересы вступали, таким образом, в противоречие с интересами средневековых протоолигархов.
Довод, традиционно используемый в преамбуле апологетики «великих реформ» Александра II о преимуществах вольнонаемного труда над крепостным, не представляется убедительным. Если крепостная николаевская Россия занимала второе место по объ- ему промышленного производства в мире, то к концу реформационной эпохи она катастрофически отстала от конкурентов, оказавшись уже на пятой строчке. За всю историю императорской России только на время правления Александра II соотношение торгового баланса оказалось смещено в пользу импорта, свидетельствуя об определенном упадке национальной экономики.
Особенно социально опасным представляются проекты отказа от государственного регулирования сельского хозяйства в России, где изобилие исключено в силу природных условий, и даже для крестьянина всегда актуальной являлась проблема физического выживания. При традиционной урожайности сам-3–сам-4 русское крестьянское хозяйство не могло и не может быть товарным. Поэтому для развития промышленной сферы, науки и культуры, а по большому счету для выживания России требовалось заставить крестьянина отдать часть необходимой ему самому продукции. Таким образом, продразверстка «военного коммунизма» являлась действенным на всем протяжении русской истории цивилизационным механизмом самосохранения.
Даже успешное развитие частного сектора не означает, что результаты затраченного в нем труда будут иметь национальную аккумуляцию. Так, в Судане и Бангладеше валовое производство сельхозпродукции даже избыточно, что не исключает массовую физическую смертность от ее нехватки. Сомали выступает одним из крупных экспортеров мяса, а собственный народ умирает от голода.
Экономический опыт России свидетельствует в пользу ее этатизации. Наиболее динамичными в экономическом отношении периодами ее истории были времена усиления этатистских контрреформационных тенденций. Посредством дефиниции «экономическое чудо» можно характеризовать хозяйственное развитие страны в периоды правления Александра III и И. в. Сталина. Констатация данного факта позволяет говорить об этатизме как оптимальной модели российской мир-экономики.
Теория ретрадиционализации экономики
Теория модернизации составляет в настоящее время доминирующую в гуманита-ристике методологическую основу изучения общественного развития. Из гипотетического концепта она превратилась в клише, не требующее специального обоснования. Сама теория представляет собой модификацию модели универсального прогресса. Она явилась ответом универсалистов на распространение цивилизационного моделирования. Реформы, исходя из «теории модернизации», интерпретируются как неизбежный процесс демонтажа рудиментов традиционного сообщества. Однако самосохранение цивилизационных систем, мир-экономик предполагает отстаивание их традиционалистской специфики. Национальные реформы в противоположность предшествующей реформаторской практике должны быть не инновационны, а адаптационны по отношению к цивилизациям. Модернизационной парадигме следует противопоставить идеологию ретрадиционализации экономики.
Список литературы Цивилизационно-ценностные основания исторического генезиса российской системы хозяйствования
- Багдасарян В. Э., Шнайдген Й. Й. Иностранный туризм в СССР через призму «холодной войны». -М., 2004.
- Боровой С. Я. Кредит и банки России (сер. XVII в. -1861 г.). -М., 1958.
- Белоусов Р. А. Экономическая история России: ХХ век. -М., 2004.
- Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. -М., 1997. С. 19, 26.
- Витчевский В. Торговля, таможенная и промышленная политика России со времен Петра великого до наших дней. -СПб., 1909.
- Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР. -М., 1954. Т. 1.
- Лунев С.И. Социально-экономическое развитие крупнейших стран Евразии: цивилизационный контекст//восток-Запад-Россия. Сб. статей. -М., 2002. С. 168.
- Патрушев А. И. Германия в XX веке. -М., 2004. С. 197-206.
- Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX века). вып. IV. М. О. Меньшиков. Материалы и биографии. -М., 1993. С. 34.
- Белоусов Р. А. Экономическая история России: ХХ век. М., 2006. Кн. 65. Печерин Я. И. Исторический обзор государственных доходов и расходов с 1803 по 1843 включительно. -С-Пб., 1896.
- Симонов Н. военно-промышленный комплекс в СССР в 1920-1950-е годы. -М., 1996. С. 223.
- Урнов М. Ю., Касамара В. А. Современная Россия: вызовы и ответы. Сб. материалов. -М., 2005. С. 54.
- Белоусов Р. А. Экономическая история России: ХХ век. -М., 2006. Кн. 65. С. 318-319.
- Бовыкин В. И. Заключение//Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: очерки. -М., 1997. С. 316, 318.
- Бродель Ф. время мира. -М., 1992. Т.3. С. 13-18, С. 48-51, С. 437, С. 456-457, С. 477.
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства. -М., 1990.
- Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. -М., 1997. С. 19, 26.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма//Избр. произведения. -М., 1990.
- Вольтке Г. С. Право торговли и промышленности в России в историческом развитии (XIX век). -СПб., 1905. С. 20-31.
- Вургафт С. Г., Ушаков И. Д. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. -М., 1996.
- Гельбрас В., Кузнецова В. КНР: год суровых испытаний//Мировая экономика и международные отношения. -М., 2000. № 8. С. 115.
- Горохов Э. Энциклопедия афоризмов (Мысль в слове). -М., 1999. С. 648.
- Даль В. И. Пословицы Русского Народа. -М., 1904. Т. 1-4.
- Дугин А. Г. Основы геополитики. геополитическое будущее России. -М., 1997.
- Зомбарт В. Буржуа. -М., 1994.
- Исаев А. Артель в России. СПб., 1872073. вып. 1-2;
- История СССР, 1861-1917/Под ред. в. г. Тюкавкина. -М., 1989. С. 66-67.
- История США. Т. 2. 1877-1918/Отв. ред. г. П. Куропятник. -М., 1985. С. 13.
- Качаровский К. Р. Русская община. возможно ли, желательно ли ее сохранение и развитие (опыт цифрового и фактического исследования). -СПб., 1890.
- Краткий политический словарь. -М.: Изд. полит. лит., 1988, С. 87.
- Ленин В. И. ПСС. Т. 45. С. 220-221, 333-337.
- Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854-1891). -СПб., 1993. С. 473.
- Лунев С. И. Социально-экономическое развитие крупнейших стран Евразии. Цивилизационный контекст//восток-Запад-Россия. -М., 2002. С. 161.
- Maddison A. Monitoning the Worlj Economy, 1820-1992. Paris, 1995. P. 226-227;
- Макмиялян Ч. Японская промышленная система. -М., 1988.
- Маркс К. Британское владычество в Индии//Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. -М., 1983. Т. 1. С. 519.
- Менделеев Д. И. Заветные мысли. -М., 1995. С. 99-134.
- Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия в пяти томах. -М., 1994.
- Пайпс Р. Россия при старом режиме. -М., 1993. С. 18-21, С. 256-258.
- Погосян С. С. Проблемы современной суверенизации Армении в историографии и общественно-политической мысли. Дис. кин. -М., 2005. С. 66.
- Репников А. В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX -начало ХХ веков). -М., 2006. С. 226-227.
- Россия в цифрах. 2006.: Краткий статистический сборник. -М., 2006. С. 428-431.
- Россия и мировой бизнес: дела и судьбы/в. И. Бовыкина, общ. ред., предисл. -М., 1996. С. 14.
- Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. (Репринт изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. -СПб, 1898).
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М., 1962
- Толстой Ю. В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией 1553-1593. -СПб., 1875. С. 109.
- Хорос В. Японские секреты//Знание -сила. 1991. № 10. С. 22-23.
- Чанг П. К. Краткое изложение опыта изложения экономического развития Китайской республики на о. Тайвань. -М., 1999. С. 2
- Шумпетер Й. История экономического анализа//Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. -М., 1989. вып. 1. С. 256-265.
- Калачев Н.В. Артель в древней и нынешней России. -СПб., 1864.
- Radelet S., Sachs J. Asia.s Reemergence//Foreign Affairs. 1997. Vol. 76. № 6. P. 46.