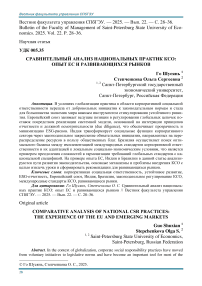Cравнительный анализ национальных практик КСО: опыт ЕС и развивающихся рынков
Автор: Го Шусянь, Степченкова О.С.
Журнал: Вестник факультета управления СПбГЭУ @vfu-spgeu
Статья в выпуске: 22, 2025 года.
Бесплатный доступ
В условиях глобализации практика в области корпоративной социальной ответственности перешла от добровольных инициатив к законодательным нормам и стала для большинства экономик мира важным инструментом стимулирования устойчивого развития. Европейский союз занимает ведущие позиции в регулировании глобальных цепочек поставок посредством реализации системной модели, основанной на интеграции принципов отчетности и должной осмотрительности (due diligence), что обеспечивает прозрачность и минимизацию ESG-рисков. Индия трансформирует социальные функции корпоративного сектора через законодательное закрепление обязательных инициатив, направленных на перераспределение ресурсов в пользу общественных благ. Бразилия осуществляет поиск оптимального баланса между имплементацией международных стандартов корпоративной ответственности и их адаптацией к локальным социально-экономическим условиям, что является примером преодоления сложностей в гармонизации требований глобальных стандартов с национальной спецификой. На примере опыта ЕС, Индии и Бразилии в данной статье анализируются пути развития законодательства, основные механизмы и проблемы внедрения КСО с целью извлечь уроки и сформировать рекомендации для развивающихся рынков.
Корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, ESG-отчетность, Европейский союз, Индия, Бразилия, законодательное регулирование КСО, международные стандарты КСО, развивающиеся рынки
Короткий адрес: https://sciup.org/148332132
IDR: 148332132 | УДК: 005.35
Текст научной статьи Cравнительный анализ национальных практик КСО: опыт ЕС и развивающихся рынков
В последние десятилетия корпоративная социальная ответственность (КСО) перестала быть исключительно добровольной практикой и трансформировалась в ключевой инструмент устойчивого развития и государственного регулирования бизнеса. Трансформация особенно актуальна в условиях глобализации, когда транснациональные компании играют все более значимую роль в формировании экономических, экологических и социальных процессов как в развитых, так и в развивающихся странах. С одной стороны, КСО становится механизмом повышения прозрачности и доверия к бизнесу, с другой – инструментом реализации государственной политики в таких сферах, как охрана окружающей среды, защита прав человека и борьба с социальным неравенством. Особый интерес представляет анализ того, как различные государства адаптируют международные стандарты КСО с учетом национальных особенностей. Цель настоящей статьи – провести сравнительный анализ национальных моделей КСО в ЕС, Индии и Бразилии, выявить ключевые подходы, институциональные различия и практические проблемы внедрения КСО, а также сформулировать рекомендации для развивающихся стран с учетом международного опыта.
Материалы и методы
Методы, примененные в исследовании: 1) анализ нормативно-правовых документов и научных публикаций; 2) сопоставление законодательных моделей КСО в ЕС, Индии и Бразилии по критериям: регуляторные подходы («процессное регулирование» vs «ориентация на результат»); эффективность внедрения; адаптация к локальным условиям. Выбор стран для исследования демонстрирует разнообразие экономических и регуляторных моделей, контраст в подходах к КСО, их влияние на глобальные цепочки поставок. Доступность законодательных документов и научных статей как базы для исследования обеспечивает достоверность выводов.
Результаты исследования
ЕС: системная модель регулирования, основанная на принципе «двойной существенности». Законодательство ЕС в области КСО претерпело существенную эволюцию, трансформируясь от локальных инициатив к системному регулированию глобальных цепочек создания стоимости. Отправной точкой этого процесса стала Директива о нефинансовой отчетности (NFRD) [16], принятая в 2014 году и обязывающая крупные компании раскрывать информацию по экологическим, социальным и управленческим аспектам (ESG). Дальнейшее развитие привело к формированию комплексной системы регулирования, включающей Директиву о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) [1] и Директиву о должной добросовестности в области корпоративного устойчивого развития (CSDDD) [2], которая расширяет требования к раскрытию ESG-информации для компаний, подпадающих под ее действие, начиная с 2024 года. Ключевым элементом директивы является принцип «двойной существенности», предполагающий двустороннюю оценку: существенность воздействия - влияние деятельности компании на общество и окружающую среду; финансовая существенность - потенциальное воздействие ESG-рисков на экономические показатели организации. Директива CSDDD, предусматривающая поэтапное внедрение до 2027 года, устанавливает обязательства для компаний по проведению должной добросовестности (due diligence) в цепочках поставок, что включает идентификацию, предотвращение и минимизацию рисков, связанных с нарушениями прав человека, и рисков несоответствия экологическим стандартам. В исключительных случаях директивой предусмотрено прекращение сотрудничества с поставщиками, не соответствующими установленным требованиям.
Реализация нормативов КСО в ЕС осуществляется с учетом дифференцированного подхода к предприятиям. Крупные компании, соответствующие критериям более 1000 сотрудников и годового оборота свыше 450 млн евро, обязаны обеспечить полное соответствие требованиям к 2028 году. Малые и средние предприятия (МСП) исключены из обязательного регулирования благодаря установленным пороговым значениям, что снижает административную нагрузку на данный сегмент экономики. На национальном уровне государства-члены ЕС дополняют общеевропейские инициативы собственными законодательными мерами. Например, Закон Германии о надлежащей проверке цепочек поставок (LkSG) [14], вступивший в силу в 2023 году, обязывает компании выявлять, предотвращать и минимизировать риски, связанные с нарушениями прав человека и несоответствия экологических стандартов в своих цепочках. Закон Франции об обязанности бдительности (2017) [15] требует от крупных корпораций разработки и публикации планов по предотвращению социальных и экологических рисков, включая механизмы их мониторинга.
Значительные затраты на внедрение стандартов КСО, особенно для МСП, спровоцировали дискуссии о необходимости обеспечения баланса между устойчивым развитием и экономической целесообразностью. В ответ на это в 2025 году ЕС принял Поправку Omnibus I [18], которая повысила пороговые значения для обязательного применения норм; продлила переходные периоды для адаптации бизнеса; закрепила гибкие механизмы соблюдения требований для секторов с высокой ресурсоемкостью.
ЕС реализует системные меры для управления полным жизненным циклом продукции, ориентированные на достижение целей циркулярной экономи- ки. Ключевыми инструментами в этой области являются: 1) цифровой паспорт продукции – платформа для отслеживания данных о происхождении, составе, ремонтопригодности и утилизации товаров, что повышает прозрачность цепочек создания стоимости; 2) принципы экодизайна (EcoDesign), закрепленные в Регламенте ЕС 2023/1781, которые устанавливают обязательные требования к энергоэффективности, долговечности и рециклингу продукции. В рамках Рамочной директивы по отходам (2008/98/EC), обновленной в 2024 году, отрасли производства текстиля и обуви обязаны внедрить схемы расширенной ответственности производителя (EPR) с 2026 года. Таким образом, компании будут нести финансовую ответственность за сбор, переработку и утилизацию продукции после окончания её срока службы.
Данные инициативы не только трансформируют европейский рынок, но и оказывают косвенное воздействие на развивающиеся экономики через требования к соблюдению стандартов ESG для поставщиков из третьих стран, распространение технологий отслеживания цепочек поставок (например, блокчейн), а также стимулирование гармонизации международных экологических норм. Европейские компании активно применяют стратегии устойчивого развития, включая экологический дизайн, циркулярную экономику и использование стандартов, таких как BSCI и SA8000 [10; 12]. Подобные инициативы не только меняют правила европейского рынка, но и влияют на практику КСО на развивающихся рынках через цепочки поставок транснациональных компаний.
Индия: модель КСО – «перераспределение ресурсов». Индия стала первой страной, законодательно закрепившей обязательные расходы на КСО. Согласно Разделу 135 Закона о компаниях от 2013 года, организации с чистыми активами свыше 500 млн рупий или чистой прибылью более 5 млрд рупий обязаны формировать комитеты по КСО; направлять 2% средней чистой прибыли за предыдущие три года на проекты в области образования, здравоохранения, экологии и социальной инфраструктуры. Законодательство этой страны сочетает индуистские традиции филантропии (например, концепцию «даана» – дарения на благо общества) с фискальными механизмами государства, которые направлены на компенсацию дефицита социального обеспечения посредством корпоративного финансирования. Индия прошла путь от Добровольного кодекса КСО (2009) до Национального руководства по ответственному ведению бизнеса (NGRBC), гармонизированного с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР). Введение закона о КСО в 2013 г. способствовало переходу индийский компаний от разовых инициатив к проектному управлению [3; 5].
В 2020 году Совет по ценным бумагам и биржам (SEBI) обязал 1000 крупнейших компаний по рыночной капитализации публиковать ESG-отчеты, что способствует интеграции индийского бизнеса в глобальные стандарты устойчивости. К 2020 году совокупные корпоративные расходы на КСО достигли 250 млрд рупий (≈3,3 млрд долл. США), а рынок «зеленых» облигаций Индии занял второе место среди развивающихся стран по объему эмиссии по данным на 2019 год. В 2020 году Индия стала второй в мире по привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику. В то же время обзор практик крупнейших энергокомпаний Индии выявил увеличение количества инициа- тив, но также проблемы с вовлечением заинтересованных сторон и мониторингом эффективности [19].
Отчет о корпоративной ответственности и устойчивом развитии (BRSR), введенный в 2020 году, предусматривает «двойной формат» раскрытия данных (подробный и сокращенный). Однако сопоставимость информации ограничена из-за параллельного использования стандартов GRI, SASB и национальных норм. Проблемы внедрения КСО в секторе МСП связаны с применением недобросовестных действий (greenwashing), которые обусловлены непосильными объемами затрат на соответствие требованиям стандартов. Неравномерное региональное развитие приводит к дисбалансу в реализации корпоративных программ: например, приоритет получают чаще урбанизированные штаты, чем с преобладанием сельской местности. Индийские частные банки показывают лучшие показатели КСО, чем государственные и иностранные, особенно в сферах экологии и здравоохранения [20].
Бразилия: противоречия между международными стандартами и локальной практикой . В Бразилии отсутствует единый законодательный акт, регулирующий КСО и поэтому данная сфера деятельности бизнеса регламентируется фрагментарно. В числе законодательных актов необходимо отметить закон о компаниях (Lei das Sociedades por Ações, 1976), закон о рынках капитала (Lei do Mercado de Capitais, 2021), отраслевые нормативы, такие как резолюции Национального агентства по надзору за здоровьем (ANVISA) и экологический кодекс.
Компании, зарегистрированные на Бразильской фондовой бирже (B3), обязаны раскрывать сведения о КСО в отчетах об устойчивом развитии по принципу «соблюдай или объясни» (comply-or-explain). Однако разрешение использовать различные стандарты отчетности (GRI, SASB, IIRC) приводит к несопоставимости данных, что затрудняет анализ ESG-показателей на национальном уровне.
Бразилия занимает первое место в Латинской Америке по числу сертификатов SA 8000 (стандарт социальной ответственности). Однако исследование 2019 года, охватившее 68 сертифицированных компаний, выявило, что 38% нарушений связаны с охраной труда и техникой безопасности, а высокий уровень смертности на производстве составил 3,5 случая на 100 тыс. работников в 2020 [8]. Результаты мониторинга КСО бразильский компаний свидетельствуют о разрыве между формальной сертификацией и реальными результатами практик управления КСО. Бразильский рынок «зеленых» облигаций развивается невысокими темпами. В период 2015–2019 гг. объем эмиссии составил 7,6 млрд долл. США, из которых 83,8% направлено в чистую энергетику, 12,8% – в «зеленый» транспорт. Правительство Бразилии оценивает потребность финансирования низкоуглеродной инфраструктуры в 280 млрд долл. к 2025 году, однако частный сектор участвует в этих проектах менее чем на 30%. К основным барьерам внедрения КСО следует отнести отсутствие единых стандартов «зеленого» финансирования, а также низкий уровень доверия инвесторов из-за коррупционных скандалов. Корпоративная социальная ответственность (КСО) в Бразилии преимущественно регламентируется через корпоративные ассоциации, ориентируясь на коммерческие интересы, что ограничивает её трансформационный потен- циал в контексте устойчивого развития [11]. Эмпирические исследования в рекреационно-туристском секторе демонстрируют вариативность подходов к КСО, обусловленную дифференцированным восприятием экологических и социальных рисков, что приводит к фрагментации практик внедрения [17].
Согласно аналитическим данным, стратегическое планирование и интеграция КСО в корпоративные стратегии остаются недостаточно проработанными, тогда как механизмы отчётности и взаимодействия со стейкхолдерами достигли относительно высокой степени институционализации [6]. Несмотря на активное внедрение добровольных стандартов, таких как GRI и SA8000, в экспортно-ориентированных отраслях, их применение зачастую носит декларативный характер, не приводя к системным изменениям в управлении устойчивостью [13]. В нефтегазовом секторе формальное соответствие КСО-кодов международным нормам (например, принципам ООН в области прав человека или конвенциям МОТ) маскирует ограниченную имплементацию, обусловленную региональными особенностями правоприменительной практики [9].
Сравнительный анализ подходов к КСО: ЕС, Индия и Бразилия. Законодательство ЕС в области КСО ориентировано на «регулирование процессов», акцентируя управление цепочками поставок через механизмы должной осмотрительности (due diligence) и отчетности. Например, Директива CSDDD (2023) обязывает компании оценивать ESG-риски не только у прямых поставщиков, но и в рамках всей цепочки создания стоимости, а также разрабатывать планы по их минимизации. ЕС снижает нагрузку на бизнес через поэтапное внедрение (например, полное соответствие CSDDD к 2027 году) и аудит третьей стороной, что обеспечивает прозрачность и снижает риски гринвошинга. ЕС опирается на институциональную рациональность, унифицируя стандарты ESG, что снижает роль локальных культурных особенностей.
Индийская модель заключается в «ориентации на результат», законодательно закрепляя обязательные инвестиции в КСО. Опыт Индии показывает, что закрепление религиозных ценностей в законодательстве повышает легитимность КСО.
Бразильская модель КСО опирается на рыночное саморегулирование и международные стандарты (GRI, SASB), однако фрагментарность законодательства и слабое правоприменение снижают эффективность. Например, сертификация SA 8000, несмотря на её распространенность, не привела к значительному улучшению условий труда из-за пробелов в системе контроля. Отсутствие системных стимулов и гармонизированных стандартов приводит к выборочному соблюдению международных норм, особенно в регионах с низким уровнем правоприменения. Социальное неравенство и слабость институтов ограничивают эффективность политик КСО, несмотря на формальное принятие международных норм. Бразилия нуждается в гармонизации стандартов ESG (например, через единый регламент раскрытия данных) для преодоления существующей фрагментации.
Потребительские предпочтения в Индии и Бразилии демонстрируют повышенную значимость корпоративной социальной ответственности (КСО), ориентированной на локальные сообщества, что коррелирует с ростом лояльно- сти клиентов при внедрении таких инициатив [8]. В то время как развитые страны лидируют по уровню раскрытия ESG-информации, Индия выделяется среди развивающихся рынков, однако обязательное регулирование не гарантирует повышения качества реализации программ КСО [4].
Исследования [7] подчеркивают региональную специфику: в Индии традиции филантропии (например, концепция даан) усиливают социальную вовлеченность бизнеса, тогда как в Латинской Америке институциональная слабость усугубляет дисбаланс в применении стандартов. Индийский опыт показывает, что обязательные расходы на КСО (2% чистой прибыли) эффективно мобилизуют ресурсы, но требуют гибкости (например, «двойной формат» отчетности BRSR) и исключений для малых и средних предприятий (МСП). Многоуровневый подход ЕС, предполагающий дифференциацию требований к крупным компаниям и МСП, может быть адаптирован развивающимися странами: например, Бразилия могла бы внедрить градацию due diligence для транснациональных корпораций и локальных производителей. Акцент на местных проблемах - таких как защита тропических лесов или поддержка коренных общин - способен повысить социальную легитимность КСО-программ в бразильском контексте. Наконец, инициативы ЕС, включая Цифровой паспорт продукции и Принципы экодизайна, актуализируют необходимость стандартизации ESG-данных, а внедрение технологий блокчейна для отслеживания углеродного следа может стать ключевым инструментом повышения прозрачности глобальных цепочек поставок.
Заключение
Сравнительный анализ моделей корпоративной социальной ответственности (КСО) в Европейском Союзе, Индии и Бразилии выявил принципиальные различия в подходах к регулированию, обусловленные институциональными, экономическими и культурными особенностями этих регионов. Европейский Союз, реализуя системную модель, фокусируется на комплексном регулировании цепочек поставок через директивы CSRD и CSDDD, которые стандартизируют ESG-отчетность и внедряют механизмы должной осмотрительности, что не только обеспечивает прозрачность и управление рисками, но и формирует глобальные эталоны для транснациональных корпораций. В Индии законотворческая модель, основанная на обязательном перераспределении ресурсов (2% чистой прибыли на социальные проекты), сочетается с интеграцией культурных традиций, таких как филантропия даан, что усиливает легитимность КСО, но сталкивается с проблемами гринвошинга и регионального дисбаланса. Бразилия, напротив, демонстрирует противоречие между формальным принятием международных стандартов (GRI, SA 8000) и их слабой имплементацией, обусловленной фрагментарностью законодательства, социально-экономическим неравенством и последствиями корпоративных скандалов.
Для развивающихся рынков ключевой урок заключается в необходимости нахождения баланса между императивными нормами и гибкостью. Опыт Индии показывает, что обязательные расходы могут быстро мобилизовать ресурсы, но требуют адаптивных механизмов, таких как «двойной формат» отчетности BRSR, и дифференцированных требований для малых и средних предпри- ятий. Бразилия подчеркивает важность укрепления институтов и гармонизации стандартов, а также интеграции локальных инициатив, таких как защита тропических лесов, для повышения социальной приемлемости программ. Технологические инновации, включая внедрение блокчейна для отслеживания цепочек поставок и стандартизацию ESG-данных (по аналогии с Цифровым паспортом ЕС), становятся критически важными инструментами для преодоления фрагментации и повышения прозрачности.
Универсальным принципом успешной реализации КСО является синтез экономической эффективности, достигаемой через мобилизацию ресурсов, и социальной справедливости, обеспечиваемой инклюзивными механизмами. Этот баланс невозможен без учета локальных институциональных и культурных контекстов, что подтверждается различиями в подходах ЕС, Индии и Бразилии. Научная ценность исследования заключается в выявлении как универсальных барьеров (например, гринвошинг), так и региональных вызовов (фрагментарность законодательства, социальное неравенство), а также в формулировании адаптивных стратегий, интегрирующих технологические и культурные факторы. Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку гибридных моделей КСО, сочетающих глобальные стандарты с локальной спецификой, для достижения целей устойчивого развития в разнообразных социально-экономических условиях.