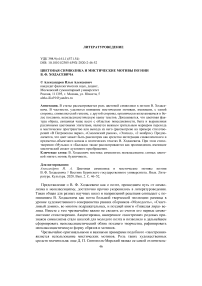Цветовая символика и мистические мотивы поэзии В. Ф. Ходасевича
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль цветовой символики в поэзии В. Ходасевича. В частности, уделяется внимание мистическим мотивам, имеющим, с одной стороны, символистский генезис, с другой стороны, органически вплетающимся в более позднюю, неоклассицистическую канву текстов. Доказывается, что цветовая фактура образа, связанная чаще всего с областью повседневности, быта и выраженная различными цветовыми эпитетами, является важным зрительным маркером перехода в мистическое пространство или выхода из него (рассмотрено на примере стихотворений «В Петровском парке», «Смоленский рынок», «Эпизод», «2 ноября»). Предполагается, что цвет может быть рассмотрен как средство интеграции символического и предметно-объектного начала в поэтических текстах В. Ходасевича. При этом стихотворения «Музыка» и «Баллада» также рассматриваются как произведения, имеющие мистический сюжет духовного преображения
В. Ходасевич, мистика, символизм, неоклассицизм, сигнал, цветовой эпитет, мотив, будничность
Короткий адрес: https://sciup.org/148315637
IDR: 148315637 | УДК: 398.9(=161.1)(571.54) | DOI: 10.18101/2305-459X-2020-2-46-52
Текст научной статьи Цветовая символика и мистические мотивы поэзии В. Ф. Ходасевича
Александров И. А. Цветовая символика и мистические мотивы поэзии В. Ф. Ходасевича // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2020. Вып. 2. С. 46‒52.
Представление о В. Ф. Ходасевиче как о поэте, прошедшем путь от символизма к неоклассицизму, достаточно прочно укоренилось в литературоведении. Такая общая для разных научных школ и направлений рецепция совпадает с пониманием В. Ходасевича как поэта большой творческой эволюции: разница в уровне художественного совершенства ранних сборников «Молодость», «Счастливый домик», во многом подражательных, и поздней книги «Тяжелая лира» велика. Вместе с тем чрезвычайно важно не сводить со счетов его первые символистские стихотворения. Акцентировка, намеренное «заострение» родовых признаков символизма стало школой для молодого поэта и позволило в дальнейшем сформировать неоклассицистический облик позднего творчества, рафинировать неоклассицистическую форму образов и мотивов.
Чрезвычайно оригинальными и важными примерами подобного «заострения» является использование мистических мотивов. Роль таких художественных средств значительна: еще Д. П. Святополк-Мирский назвал ее самой отличитель- ной чертой В. Ходасевича и говорил, что он «единственный из всех молодых поэтов — мистик» [5, с. 721–722], определяя при этом мистичность главным фактором его популярности у современников. Логично предположить, что с течением времени поэт должен был отказаться от мистики как от ненужной символистской атрибутики. Однако С. Г. Бочаров справедливо замечает, что и поздние стихотворения («Как птица в воздухе…», «Улика», «Автомобиль») и программное стихотворение «Путем зерна», в котором зерно — «символ мистической смерти и нового рождения» [3], неоклассицистические по форме, далекие от символизма, также содержат мистическое. Следовательно, мистика — постоянная часть эстетических поисков В. Ходасевича, неизменный объект его творчества. Н. М. Солнцева справедливо отмечает традиционность В. Ходасевича, что в то же время не «означало отказа от сочетания классических и новых форм» [6, c. 176].
Остается неясным, с какими цветовыми художественными решениями они были связаны, как цветовой символизм раскрывался в ранних и поздних текстах.
Стихотворение «Сны» репрезентует архетипное представление о снах как о путешествиях души человека в иной мир. Типичная для В. Ходасевича ирония, открывающая текст, строится на антитезе низкого и высокого («одежда», «пол» — «душа», «страдать»), в равной степени важных для последующего развития сюжета. Адресация послания душе выражается императивной формой «ступай»:
Так! наконец-то мы в своих владеньях! Одежду —на пол, тело — на кровать. Ступай, душа, в безбрежных сновиденьях Томиться и страдать! [8, с. 46].
Во второй строфе императивность усилится, и глагол «бреди» будет построен на повторе («бреди», «бреди»). Такой прием имитирует стилистику заклинания — загадочным образом «душа» преобразуется в «дух», который на протяжении последующих четырех строф совершит путешествие в «иной предел». Герой дистанцируется от этого «духа» («Где ты — не я»), и в этом угадывается романтическая мотивировка, т. к. именно «иной предел» оказывается местом свободы1 («Свободен ты»). Последующее возвращение к земному существованию закольцовывает композицию, что выражает предопределенность попыток уйти от бренности земной жизни («День изо дня, в миг пробужденья трудный…»). Незначительная, на первый взгляд, пейзажная деталь имеет символическое цветовое выражение, служит маркером безысходной земной жизни («Смотрю в окно и вижу серый, скудный / Мой небосклон…»). Поэтому в завершающем четверостишии автор разворачивает пейзаж в подчеркнуто будничном ключе («Все тот же двор, и мглистый, и суровый, / И голубей, танцующих на нем…»). При этом в данном контексте эпитеты «мглистый», «суровый» символизируют повседнев- ность, далекую от свободы. Парадоксально, что у наследника символизма В. Ходасевича цветовые эпитеты, содержащие повседневно-прозаический подтекст, выражают уход от мистического мира «вещего сна».
Несколько иной — на границе символического и реалистического — цветовая фактура представлена в более поздних текстах — «В Петровском парке» и «Смоленском рынке».
В поражающем натуралистичностью стихотворении «Петровский парк», по своей манере подачей фактов напоминающем заметку, цветопись также становится выражением будничного. В основе — описание повешенного на дереве человека («видел это весной 1914 г., на рассвете, возвращаясь с А<нной> И<вановной> и Игорем Терентьевым из ночного ресторана в Петр<овском> Парке» [1, с. 681]). Холодная невовлеченность героя создает в лирическом тексте эпическую дистанцию, которая позволяет детализировать образ и сделать его максимально зримым:
Висел он, не качаясь, На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа Чернела на песке» [8, c. 52].
Ремешок — символ смерти — становится зримым атрибутом покойного, поэтому автор обращается к нему и в первой, и в заключительной строфе. Как следствие, эпитет «черный» имеет подтекст смерти. Иными словами, цветовая деталь, символически ассоциируемая со смертью, является частью реалистического плана.
Сюжет «Смоленского рынка» строится на будничной встрече лирического героя с покойным. Стилистически текст восходит к «Гаданию», написанному в 1907 г. Уже в «Гадании» вхождение в мир мистики отмечено красным цветом: «Свеча колеблет пламя красное. / Мой рок! Лицо приблизь ко мне!» [9, c. 13]. Образный ряд частично перенесется затем в «Смоленский рынок» (свеча, гроб). В «Смоленском рынке» отстраненная созерцательность, медитатив-ность («Смоленский рынок / Перехожу / Полет снежинок / Слежу, слежу» [8, c. 53] переходят в мистическую ассимиляцию смерти, подпитанную несколько игровым чувством обреченности («Все те же встречи / Гнетут меня / Все к той же чаше/припал и пью»)1. Желтый цвет по-достоевски выступает символом перехода в это состояние («желтеют свечи»). Семантикой смерти наполнен эпитет «синий» («синий гроб»), стилистически органичный картине московской зимы. Фофановский контекст стихотворения, отмеченный Н. А. Богомоловым (реминисценции на стихотворение «Что наша вечность?»), преломлен в финале. В отличие от К. Фофанова, герой В. Ходасевича не видит безысходности во встрече со смертью, трансформируя чувство обреченности в продуктивную модель преображения мира («Преобразись, / Смоленский рынок!»).
Таким образом, бытовая, повседневная встреча с нереальным (неживым, потусторонним) миром сопровождается цветовым знаком, атрибутом перехода в другой мир или выхода из него. В этом символистское решение, вплетающееся в неоклассицистическую ткань текста.
Целую серию сюжетов внутренней метаморфозы героя силой «неясного струения», музыки, скрытой силы открывает стихотворение с подчеркнуто прозаичным названием «Эпизод». В нем мистический план связан с пушкинским контекстом и выражен образом «маски Пушкина, закрывшего глаза», углублен шестистопным ямбом белого стиха. В свете такого образа цветовую деталь интерьера — «желтые обои» — возможно рассматривать как атрибут мистического изменения человека. В контексте истории русской литературы желтый — цвет негативных коннотаций (Ф. М. Достоевский, И. Ф. Анненский, М. А. Булгаков и т. д.) — болезни, бедности, смерти. В данном случае он выражает процесс трансформации, тяжелого переходного процесса:
Какое-то неясное струенье
Бежало трепетно и непрерывно —
И, выбежав из пальцев, длилось дальше,
Уж вне меня. Я сознавал, что нужно
Остановить его, сдержать в себе, — но воля Меня покинула… Бессмысленно смотрел я На полку книг, на желтые обои,
На маску Пушкина, закрывшую глаза… [8, с. 56].
Таким образом, желтый цвет здесь наделяется, с одной стороны, символическим смыслом; с другой стороны, оказывается очень традиционным, классическим приемом, имеющим при этом зримый, предметный характер.
В явную перекличку — и на уровне ритмического рисунка, и на уровне сюжета, мотивов — с «Эпизодом» вступает стихотворение «2 ноября». Оно также имеет пушкинский контекст, совпадает в названии с пушкинским стихотворением. В. Ходасевич рисует картину возвращающейся к жизни после длительного ненастья Москвы. Постепенное восстановление жизни — тяжелый болезненный процесс — символически выражено пейзажной деталью: «Желтым оком / Ноябрьское негреющее солнце / Смотрело вниз…» [8, с. 62]. Чудесное оживление сродни воскресению, и этим пониманием мотивирован выходящий за временные рамки пасхальный мотив в конце первой строфы («…На кладбище москвич благочестивый / Ходил на Пасхе — красное яичко / Съесть на могиле брата или кума…»). Неожиданным, но также объяснимым с точки зрения дихотомии «жизнь/смерть», «умирание/оживление» оказывается и образ гроба, который в канве московского текста, топонимического пространственного (у А. Пушкина маршрут Адриана Прохорова соединяет отдаленные друг от друга районы — Басманную и Никитскую, у Ходасевича — люди бредут «из конца в конец / от Пресненской заставы до Рогожской / И с
Балчуга в Лефортово») отсылает к «Гробовщику» А. Пушкина 1 . Герой стихотворения обращает внимание на красный цвет гроба. Упомянутое кладбище, «желтое око негреющего солнца», красный цвет гроба — символические медиаторы, цвета-сигналы мистического воскресения Москвы в неоклассици-стическом тексте.
Стремлении к фиксации будничности — родовой признак В. Ходасевича-неоклассициста. По словам Н. А. Богомолова, «мистика объективируется и выглядит такой же естественной, как поход к другу (сюжет стихотворения «2 ноября». — прим. И. А. ) или попытка разобрать на дрова заброшенный московский дом» [1, с. 16–17]. В «Музыке», например, герой за колкой дров внезапно становится причастным к тайнам небесной игры виолончели и арфы. Такая объективация тем не менее не исключает границу между мистическим и реальным. Фигура соседа Сергея Иваныча (разговорная форма функциональна) олицетворяет часть реальности, не способной соединиться с необъяснимым. Переход через границу будничного и сверхъестественного хорошо продемонстрирован в стихотворении «Автомобиль». Наречие «вдруг» в начале третьей строки вырывает героя из дремоты. Сюжетная перипетия — появление автомобиля — ознаменована черным цветом. Цветовой эпитет также сигнализирует о мистическом. «Реальный» черный цвет метафизически контрастирует с белым цветом ангельских крыльев. Живописный контраст символически перекликается с антитезой будничного и мистического, зримое появление которого преображает объект из мира «здесь и сейчас»:
Он черным лаком отливает, Сияя гранями стекла, Он в сумрак ночи простирает Два белых ангельских крыла [8, c. 116].
«Баллада» — апофеоз преображения жизни через творческое начало — логическое продолжение «Музыки». Здесь идея углубляется путем экстатического воздействия искусства, имеющего такую же, как и в «Музыке», загадочную и не содержащую понятных первоистоков природу. Результат такого влияния приводит к полной трансформации мира, и такая ситуация требует выражения пластическими средствами. Завершение метаморфозы в последней строфе ассоциируется с черным цветом:
«На гладкие черные скалы / Стопы опирает — Орфей» [8, c. 133]. Указание на державинскую первооснову цветового образа2 справедливо, однако понимание такой реминисценции, как «клавиши» интертекстуальной клавиатуры, не определяет конечную функцию живописной детали, которая, пусть и не имея символистской основы, является цветом-сигналом мистического процесса.
Несомненно, в будущем стоит полнее разобраться в органике мистических мотивов поэзии В. Ходасевича. Однако прояснение их пластической природы сводится к тому, что цветовая фактура зачастую служит сигналом, важным атрибутом формирования мистического мотива, является своеобразным «символистским» медиатором в неоклассицистической канве текста.
Список литературы Цветовая символика и мистические мотивы поэзии В. Ф. Ходасевича
- Богомолов Н. А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // В. Ходасевич. Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1989. С. 507.
- Богомолов Н. А. Комментарии // Ходасевич В. Ф. Европейская ночь. Стихотворения. Воспоминания. М.: Эксмо, 2013. 734 с.
- Бочаров С. Г. «Памятник» Ходасевича [Электронный ресурс]. URL: http://hodasevich.lit-info.ru/hodasevich/kritika/bocharov-pamyatnik.htm (дата обращения: 10.06.2020).
- Кормилов С. И. Москва в поэзии Владислава Ходасевича // Вестник Московского университета. 2011. № 3. С. 84–93.
- Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2009. 872 с.
- Солнцева Н. М. Поэзия В. Ф. Ходасевича: от символизма к неоклассицизму // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 173–178
- Успенский П. Ф. «Лиры лабиринт»: почему В. Ф. Ходасевич назвал четвертую книгу стихов «Тяжелая лира» // Лотмановский сборник. 2014. № 4. С. 450–467.
- Ходасевич В. Ф. Европейская ночь. Стихотворения. Воспоминания. М.: Эксмо, 2013. 734 с.
- Ходасевич В. Собрание стихов. Т. I. La Presse Libre. Париж, 1982. 311 с.
- Щеглов Ю.К. Проза. Поэзия. Поэтика. Избранные работы [Электронный ресурс]. URL: https://iknigi.net/avtor-yuriy-scheglov/96589-proza-poeziya-poetika-izbrannye-raboty-yuriy-scheglov/read/page-10.html (дата обращения: 10.06.2020).