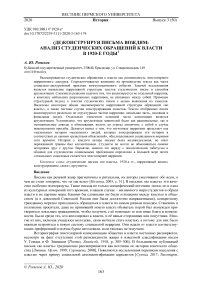(Де)конструируя письма вождям: анализ студенческих обращений к власти в 1920-е годы
Автор: Рожков А.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Письма "Во власть"
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются студенческие обращения к власти как разновидность эпистолярного нарративного дискурса. Сосредоточивается внимание на производстве текста как части социально-дискурсивной практики коммуникативного события. Задачей исследования является выявление нарративной структуры текстов студенческих писем и способов аргументации. Сложность решения задачи в том, что анализируется не отдельный нарратив, а комплекс небольших разрозненных нарративов, не связанных между собой. Применен структурный подход к текстам студенческих писем с целью выявления их смыслов. Выделены некоторые общие закономерности нарративной структуры обращений «во власть», а также частные случаи конструирования сюжетов. Тексты отобранных писем анализируются раздельно по структурным частям нарратива: начальная часть, основная и финальная (кода). Отдельным элементом основной части композиции является аргументация. Установлено, что аргументами заявителей были как рациональные, так и эмоциональные доводы и обоснования, вплоть до угрозы покончить с собой в случае невыполнения просьбы. Делается вывод о том, что изученные нарративы предстают как «маленькие» истории «маленьких» людей, которые конструировали эти истории в соответствии со своими «решетками объяснений», обусловленными социальными нормами того времени. История у каждого автора письма была индивидуальная, но опыт переживаний травмы был коллективным. Студенты не могли не обмениваться своими историями друг с другом. Вероятно, именно это наряду с поколенческим габитусом и общими для студенчества социальными проблемами определяло в большей мере почти «лекальные» смысловые схожести в эпистолярной наррации.
Студенческие письма "во власть", 1920-е гг, нарративный анализ, конструирование, сюжет, аргументы
Короткий адрес: https://sciup.org/147246316
IDR: 147246316 | УДК: 930:388.14”1920-е“ | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-163-174
Текст научной статьи (Де)конструируя письма вождям: анализ студенческих обращений к власти в 1920-е годы
Письма как речевой жанр прагматичны и ритуальны, их авторы умалчивают обо всем, о чем не стоит говорить, что «и так ясно» [ Козлова , 2005, с. 51]. В письмах «во власть» эти качества особенно подчеркнуты. Такие письма не только специфический источник эпохи, но и одно из культурных измерений того времени, в нашем случае – жизненного мира студентов и образа власти в их картине мира. Какими бы сложными ни были отношения между властью и обществом (а в довоенной Советской России они были достаточно напряженными), конкретному гражданину нередко приходилось обращаться к власти по самым разным поводам. Становясь в положение просителя, даже не принявший новую власть обыватель порой был вынужден притворяться лояльным гражданином, чтобы получить с её помощью те или иные блага и возможности. Были среди тех, кто апеллировал к власти, и её явные сторонники или попутчики. Многие из них, включая учащуюся молодежь, сами мечтали стать властью, а потому для них было важным встроиться в новую систему социальной иерархии. Они ждали от власти соответствующих преференций и подчас бурно негодовали, если таковых не получали.
Историография эпистолярной коммуникации общества и власти постоянно расширяется, несмотря на факт отсутствия этой разновидности жанра в известной классификации писем У. Томаса и Ф. Знанецки [ Thomas, Znaniecki , 1918, p. 305–306]. В большинстве публикаций письма «во власть» традиционно рассматриваются как источник по истории советского общества [ Лившин, Орлов, 1999; Суровцева, 2008]. Появляются исследования переписки населения с властью через призму социальной самоидентификации адресантов [ Сухова, 2017; Тихомиров,
2016], историю эмоций в раннесоветском обществе [ Тажидинова, 2017]. Немалое количество интересных работ по этой проблематике вышло за рубежом, где данная тема стала исследоваться несколько раньше [ Fitzpatrick , 1996, 1997; Freeze, 1988; White, 1983].
В последние годы начали появляться и работы о молодежных обращениях к власти, привлекающие наше внимание своими методологическими подходами и методическими решениями [ Андреев, 2007; Рыбаков, 2018; Рябченко, 2009, 2018]. Д. А. Андреев подверг анализу около трехсот апелляционных заявлений ленинградских студентов во время «чистки» на предмет выявления особенностей их самопрезентации. Р. В. Рыбаков применил специальные компьютерные приложения для контент-анализа. В работах О. Л. Рябченко особый акцент сделан на реконструкции студенческой повседневности через анализ корпуса эпистолярных источников, а также на изучении способов конструирования Я-образа авторами писем «во власть». Определенный вклад в разработку проблемы внесли и исполнители нашего исследовательского проекта РФФИ2 [ Еремеева, 2019; Микулёнок, 2019; Рожков, 2018, 2019].
Источники и методология исследования
Студенческие обращения к власти рассматриваются нами как составная часть особого эпистолярного жанра – писем «во власть», сложившегося задолго до 1920-х гг. Опыт изучения нескольких сотен подобных писем студентов, собранных в разных архивохранилищах страны, показал, что только незначительная часть обращений имеет следы обратной связи с адресантами либо бюрократические пометы и резолюции чиновников. Подавляющая часть писем осталась без явных признаков реагирования со стороны властных инстанций. Доподлинно неизвестно, имели ли в большинстве своем эти письма тот эффект, на который рассчитывали их авторы, были ли их просьбы учтены в последующей политике функционеров. Вместе с тем сам факт письменной коммуникации студенчества с властями несомненен. Ведь любая коммуникация – это «взаимодействие мысли изреченной и мысли, извлеченной из речи» [ Дэвидсон, 2003, с. 336]. По Н. Луману, коммуникация является «определенным типом наблюдения мира» и осуществляется там, где имеет место различение и выделение из сообщения информации: «сообщающий» из всего массива того, о чем он мог сказать, «посылает» именно данное сообщение (первое различие), а «принимающий» сообщение «извлекает» из него далеко не все то, что стремился сообщить его собеседник (второе различие) [ Луман , 2004, с. 210–211]. Причем в нашем случае конкретный «рассказчик» в письме «во власть» сообщал свою «ужасную историю» конкретному адресату, с учетом его социального статуса и полномочий. Даже если не обнаружены письменные следы реакции чиновников на обращения студентов, есть все основания полагать, что их письма были прочитаны функционерами лично или их помощниками.
Трудно не согласиться с Н. Н. Козловой в том, что исследователь нарративов обращает внимание главным образом на то, как построено повествование, как именно производятся и воспроизводятся социальные представления, т. е. сама социальная реальность [ Козлова , 2005, с. 49]. В настоящей статье мы концентрируем свое внимание только на одной части социальнодискурсивной практики коммуникативного события (по трехмерной модели Н. Фэркло) – производстве эпистолярного текста [ Йоргенсен , Филлипс , 2008, c. 121]. Задачей исследования является выявление сюжетной структуры текстов студенческих писем и способов авторской аргументации, что, по меткому выражению Р. Сэмюэла, поможет извлечь из этих источников смысл «против воли самих документов» [ Тош , 2000, c. 155–156].
Такой ракурс рассмотрения проблемы диктует применение нарративного анализа. Учитывая некоторые разногласия между авторами в определениях и структурировании нарратива, мы исходим из обобщенной формулы, предложенной И.В. Троцук: нарратив = история/фабула (основание нарратива, позволяющее отличать нарративные тексты от ненарративных) + сюжет (текст/дискурс + наррация) [ Троцук , 2006, с. 22]. Под нарративом нами понимается любой повествовательный («осюжеченный») текст, функция которого – информировать адресата о событиях. В письмах «во власть», как правило, присутствуют все основные нарративные маркеры: резюме, часто предшествующее изложению нарратива; кода, возвращающая слушателя от повествования к настоящему времени и актуальной ситуации; прямая речь действующих лиц повествования [ Евстигнеева, Оберемко , 2007, с. 95, 97].
В нарратологии к историческим нарративам относят тексты, написанные историками для описания и интерпретации прошлого [Анкерсмит, 2003, c. 117]. С другой стороны, П. Бёрк от- мечает, что «нынешний интерес историков к нарративу – это отчасти и интерес к нарративным практикам, характерным для конкретной культуры, к повествованиям, которые в данной культуре люди «сами рассказывают о себе» [Бёрк, 2015, c. 190]. В нашем случае речь пойдет именно об этих «культуральных» первичных нарративах – письмах студентов 1920-х гг., которые вписываются в структурную логику нарратива как рассказанной истории с упорядоченными действиями (субъект –> событие –> объект). Нарратив, в том числе эпистолярный, – не обязательно прямое отражение действительных событий, это всегда конструирование его автором мира и самого себя. Нарратор выбирает схемы объяснения, понятные адресату, в соответствии с доминирующими дискурсами и некими имплицитными правилами. Причиной наррации обычно служит какое-то изменение статус-кво, экстраординарное событие («сюжетная точка») [Franzosi, 2010, p. 16], в нашем случае вынудившее студента обратиться со своей сложной жизненной ситуацией к власти.
Условно мы рассматриваем каждое студенческое письмо «во власть» как целостный текст (нарративный дискурс), который сконструирован рассказчиком о себе и о своей проблеме, в котором он, обращаясь к власти, использует свои «формулировки рассказа». В значительной части писем имеются четко выделенные нарративные «атомы», наиболее фундаментальные и простые элементы нарратива, которые объединены в его «молекулы» [ Анкерсмит , 2003а, с. 61, 77] и требуют самого пристального изучения. Эти «идеальные» нарративные фрагменты, как правило, представляют собой краткое автобиографическое повествование, самопрезента-цию для высокопоставленного адресата, а также повествование о своей проблеме и её истории.
Методика анализа
После сплошного просмотра 406 студенческих писем, направленных в различные структуры власти и лично вождям, было отобрано для изучения 132 письма. В выборку прежде всего вошли тексты с наличием явно выраженного нарративного сюжета и аргументации («полные» нарративы). Жанровое разнообразие было вторым по важности критерием отбора. Предпочтение отдавалось рукописной корреспонденции в целях снижения степени искажений при перепечатке машинистками в 1920-е гг. В случае однотипных текстов в выборку отбирались письма преимущественно из разных регионов и вузов, написанные мужчинами и женщинами разным адресатам. Письма, состоящие из нескольких строк, а также опубликованные в газетах, не рассматривались. Мы не ставили своей целью отобрать для исследования максимальное количество писем студентов, как и провести их контент-анализ (этому была посвящена отдельная статья) [ Рожков, Мамонтова , 2019]. Нас прежде всего интересовало, как студенты производили тексты своих писем «во власть» – выстраивали нарративные сюжеты, презентовали себя, к каким приемам привлечения внимания и убеждения прибегали, какими доводами пытались вызвать доверие, поддержку и/или жалость к себе со стороны адресатов своих обращений, как формулировали свои просьбы и аргументы.
Нами был выбран структурный подход к нарративному анализу [ Троцук , 2006, с. 142], который наиболее прост в применении, хотя и трудозатратен в нашем случае из-за множества текстов. Нарративное структурирование включает временнýю («узор событий») и социальную (кто-то кому-то что-то сообщает) организацию текста с целью выявления его смысла (сюжета, придающего рассказу цель и единство) [ Квале , 2003, с. 190]. Для анализа в «полных» нарративах было выделено шесть формальных функциональных элементов (по У. Лабову): те-зис/резюме (краткое изложение существа дела); ориентация (характеристика времени, места, ситуации и участников действия); комплекс действий/осложнение; оценка (значимость и смысл действий рассказчик выражает прямым утверждением, лексическим усилением, приостановкой действия, повторением и т.д.); резолюция (итог разрешения затруднения) и кода (отнесение к настоящему времени) [ Троцук , 2006, с. 143]. Значительную часть нарративов было сложно привязать к этой схеме по причине их неполноты. Критическим моментом стал поиск сходных фрагментов, которые можно объединить, суммировать. При этом нам было важно понять, как сами авторы конструировали свои нарративы, упорядочивали отдельные моменты личного опыта [ Ярская-Смирнова , 1997]. Процедура структурного изучения нарратива включала в себя несколько этапов: выделение речевых отметок начала и конца повествования и вычленение относительно простого нарратива благодаря наличию смысловой связи между началом и концом «истории»; анализ нарратива с точки зрения соотношения элементов нарративной структуры
(способа отбора прошлых событий, сюжета, описания действующих лиц и временной последовательности); выяснение социальной роли нарратива (как он возник, читается, изменяется и т.д.) [ Троцук , 2006, с. 144]. Разрозненные части нарративов сводились в общую матрицу для облегчения обработки результатов анализа.
Результаты анализа
На композицию студенческого нарратива влияли несколько факторов, основными из которых нами выделены тема (проблема) обращения, жанр письма, социальное происхождение, гендер и уровень «языковой личности» [ Караулов , 2006] автора корреспонденции. Наша задача усложнялась тем, что анализировать предстояло не отдельный нарратив, а комплекс небольших разрозненных нарративов, не связанных между собой. Это объективно не могло не привести к неизбежной унификации текстов и генерализации выводов. Перед тем как перейти к сюжетам индивидуальных нарративов, рассмотрим обобщенно всю исследованную совокупность писем.
Изученные письма тематически и жанрово классифицируются нами следующим образом: прошения (о зачислении в вуз, переводе, восстановлении, командировке на рабфак, в аспирантуру, трудоустройстве и т.д.); апелляции (на исключение, чистки, лишение прав, арест, ссылку); жалобы (на тяжелые материальные условия, размер пайка и стипендии, конкретных руководителей и студентов, недовольство обстановкой в партии и комсомоле); доносы (на студентов «чуждого» происхождения, руководство вуза, профессуру); самооправдания (опровержение доноса, раскаяние в антисоветской деятельности); политические добровольные инициативы (участие в мировой революции, подрывной и разведывательной деятельности против мирового капитала); здравицы и благодарности вождям (за поддержку, материальную помощь). При этом мы учитываем условность данной классификации, поскольку многие письма строились комбинаторно и содержали в себе элементы разных жанров. В выборку в большей части попали письма, написанные во второй половине 1920-х гг. (в архивах их отложилось больше), ранее не изученные. Суммарно прошения, апелляции и жалобы составили в выборке примерно 78%, доносы – 11%, оправдания – 9%, политические инициативы и благодарности вождям были в пределах статистической погрешности. Тексты изученных писем широко цитируются нами с целью показать разнообразие социально-дискурсивных практик студентов и способов нарративной аргументации.
Проанализированные письма мы относим к деловому типу эпистолярного творчества. Некоторые из них по стилю похожи на «наивное письмо» [ Козлова, Сандомирская , 1996]. Вероятно, часть авторов писем не имела представления о нормах деловой коммуникации и речевого этикета, к тому же бытовавшие в тот период упрощенные нравы общения налагали на письма свою печать (аноним, 1928): «Прости, тов. Калинин, что я плохо тебе написал письмо, но я, во-первых, очень спешил, а во-вторых, я не писака, а раб техники…» (ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 64. Д. 6. Л. 180). Многие студенты из крестьян и партийно-комсомольского сегмента воспринимали вождей как своих товарищей и защитников, поэтому не стеснялись открыто выражать свои чувства, излагать планы на будущее и порой бестактно расспрашивать именитых адресатов об их жизни и здоровье.
С точки зрения композиции изученные письма студентов «во власть» можно разделить на две большие группы: простые (из одной-двух смысловых частей) и сложные (из трех-четырех и более). Немало студенческих писем были композиционно простые, относительно короткими по объему и состояли из обоснования заявленной проблемы и заключительной части. Такие письма, как правило, не содержали рассказа о себе, однако включали аргументацию просьбы. Многоаспектные письма нередко имели развернутое вступление с автобиографическим или историческим сюжетом, основную часть (изложение проблемы или просьбы) и сравнительно подробную аргументацию. Заключительная этикетная формула в таких письмах была иногда расширена, будто адресант не решался завершить свое послание.
Изученный массив позволяет выделить некоторые общие закономерности нарративной структуры обращений «во власть», а также частные случаи сюжетной канвы. Складывается впечатление о том, что значительная часть писем будто была написана по единым смысловым лекалам, при этом привести к общему знаменателю всю массу нарративных сюжетов сложно, каждое письмо по-своему уникально. Понимая условность типизации разрозненных индивидуальных текстов, приведем для создания общей картины несколько типичных вариантов логиче- ских цепочек эпистолярных композиций, от простых к сложным (по два примера в каждом случае). Наиболее простая структура: 1) (отказ в трудоустройстве, РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 18–19) резюме –> обоснование обращения –> проблема –> просьба; 2) (материальные затруднения, РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 88–88об.) просьба –> обоснование –> аргумент –> резолюция. Другая структура несколько сложнее: 1) (жалоба на отказ принять в вуз по социальному происхождению, РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 60–61об.) резюме –> несогласие с решением комиссии –> апелляция –> аргумент –> новая версия ситуации –> просьба; 2) (запрет приема детей «лишенцев» в вузы и техникумы, РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 4–5 об.) резюме –> вопрос –> аргумент 1 –> аргумент 2 –> аргумент 3 –> самооправдание. Третий вариант структуры наиболее сложный, многослойный, не всегда линейный: 1) (исключение из техникума как «лишенки», РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 11–12) самопрезентация –> причина исключения –> аргумент 1 + документы –> новая позиция стансовета 1 –> аргумент 2 + документы –> новая позиция стансовета 2 –> опровержение решения стансовета –> кода; 2) (отказ в госстипендии, ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 5. Д. 359. Л. 13–13 об.) самопрезентация –> резюме –> проблема –> объяснение с аргументом 1 –> аргумент 2 –> объяснение 2 –> аргумент 3 –> обвинение комиссии в несправедливости –> апелляция к персоне.
Перейдя к анализу основных структурных элементов писем «во власть», прежде всего обратим внимание на начальную часть композиции (обращение к адресату, приветствие, комплименты). Анализ показывает, что многие студенты 1920-х гг. не учитывали различия между письменным и речевым обращением, были склонны к сокращению социальной дистанции с адресатами своих посланий. Это можно наблюдать в несколько фамильярном обращении на «ты» к вождям и чиновникам (при традиционно уважительном обращении к родителям на «вы»): «Здравствуй, уважаемый Анатолий Васильевич», «Дорогой товарищ! прошу тебя», «Многоуважаемый А. В.», «решил обратиться к тебе» и т.д. Другие, напротив, предпочитали безличное либо строго официальное обращение: «В Главпрофобр НКП», «т. Нарком», «Тов. Сталин». Такая практика обращения была в основном присуща рабфаковцам, студентам из рабоче-крестьянской среды, коммунистам и комсомольцам. Представители более образованных слоёв студенчества владели этикетными нормами деловой переписки, что отличало их письма с первых строк: «Многоуважаемый тов. Луначарский», «Уважаемый Нарком Просвещения т. Луначарский», «Простите за беспокойство», «Не имея права отнимать у Вас лишнюю минуту» и т.д.
Комплиментарный фрагмент присутствовал у многих авторов «просительных» писем. Обычно он находился в начале письма, но мог быть и в других местах послания. Чем значимее для адресанта была его проблема, чем выше был социальный статус адресата, тем более основательно соблюдался «реверансный» ритуал. «Позвольте выразить Вам свою признательность за то, что Вы дали возможность восстановиться мне в 1923 г. после несправедливого увольнения меня с 3-го курса I Ленингр. Политехнического Института, и тем самым окончить свое высшее образование», – писал в 1928 г. аноним А. В. Луначарскому (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 18). Екатерина Зайцева из Кубанского округа, исключенная из техникума как «лишенка», приписала в конце письма тому же адресату, уже покинувшему пост наркома просвещения (1930): «Я надеюсь, что только Вы, тов. Луначарский, своим авторитетным и решительным словом разрубите этот грязный узел склоки и незаконности, и дадите возможность мне закончить и юридически уже фактически законченное мною образование, и заставите снять с меня незаслуженно и преступно наложенное на меня позорное клеймо кулачки-лишенки» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 12).
К основной части нарративной структуры мы относим смысловую квинтэссенцию письма – резюме, сюжетную канву нарратива, изложение и обоснование проблемы (просьбы), с которой студент обращался во власть, а также доводы в защиту своей позиции. Изложение проблемы могло выстраиваться нарративно, в строго хронологическом порядке, или адресант сразу формулировал её, концентрируя внимание функционеров на существе проблемы, нарушившей состояние равновесия. В первом случае излагаемые в письме события (реальные и вымышленные) организовывались линейно, в своей логике последовательности, обеспечивая «основные строительные блоки повествования» [Franzosi, 2010, p. 13] (ж., 1926): «Поступив в Куб. гос. мединститут на I-й курс в связи с тяжелым материальным положением, муж бросил, и я оста- лась в «интересном положении», но я все-таки не бросила мединститут, продолжала учиться <…>. Перешедши на II-й курс, с рождением ребенка положение мое ухудшилось, что меня вынудило обратиться за помощью в профком мединститута <…>. Оставшись на повторительном курсе, я начала просить стипендию, иначе существовать я не могла. Профком удовлетворил мою просьбу, я была год госстипендиаткой <…>. С нового учебного 26–27 года при пересмотре стипендиатов мне почему-то отказали в госстипендии» (ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 5. Д. 359. Л. 13–13 об.).
Другие заявители обходились без подробного описания своей истории, начиная буквально с первых строк или после краткого вступления излагать проблему. Чаще всего такую практику можно встретить в прошениях и апелляциях, а также в письмах-доносах (аноним, 1928): «С ноября месяца с. г. студенчество ВУЗов, в особенности рабфака, остается без ужинов в студенческой столовой, потому что окрбюро пролетстуда не заключило договора на таковые. <…> говорили об ужинах в буфете, который бюро кассы открыло при общежитии студентов Куб-рабфака, отдав этот буфет частнику в аренду за 25 рублей в месяц» (ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 411. Л. 157); «Доношу до В. сведения, что у Вас в институте на 3 курсе учится Беляева Анна Яковлевна, чуждый элемент и получает стипендию. Явление считаю противозаконным, в корне противоречащим нашим законам» (аноним, 1929; ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 421. Л. 450).
Встречались письма, в которых проблема ставилась и обосновывалась сразу в виде рефлексии автора письма о своей судьбе или о судьбах молодежи. Таких писем немного в нашей коллекции, но они сразу привлекают внимание своей необычностью и «упадочностью» настроения авторов из «бывших» (м., 1929): «Я обращаюсь к Вам, чтобы указать в каком тупике находится значительная часть нашей учащейся молодежи, волею случая имеющая родителей «с прошлым». Что делать? Куда идти? <…> К чему? Пути дальше нет. Все пошло насмарку…» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 61).
Отдельного внимания заслуживают аргументы в студенческих нарративах «во власть». По Ф. Анкерсмиту, аргументация – сама по себе «идеальный нарратив» [ Анкерсмит , 2003а, c. 61]. Р. Францози отмечает, что «последовательная организация историй может предоставить причинно-следственные аргументы и обоснования» [ Franzosi , 2010, p. 144]. Характер аргументации зависел от жанра эпистолярия, заявленной в нем конкретной проблемы, социального происхождения и уровня образованности автора.
Всю совокупность аргументов можно условно разделить на рациональные и эмоциональные. В прошениях нередко самыми вескими рациональными доводами были ссылки на приложенные к письму документы (ж., 1930): «Приложения: 1) Выписка из протокола заседания Бюро ячейки ст. Петровской от 18 октября 29 г.; 2) Справка от 20 октября Стансовета; 3) Справка Стансовета 30 октября 1929 г.; <…> 8) Справка Славрайбольницы. (Все подлинные документы у меня)» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 12). Иногда встречались мотивировки, основанные на бытовых бухгалтерских расчетах (аноним, 1928): «стипендия в 80 руб. (аспирантская. – А.Р. ) в Москве – нуль» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 20).
Изредка приводились веские доводы, основанные на знании законов и нормативных актов, процедурных вопросов при принятии решений (ж., 1928): «…на основании § 6 программы ГУСа, лица, пропустившие даже без уважительных причин одну треть занятий, не подлежат исключению, раз допущены до экзаменов. <…> Постановление совета является тем более неправильным и необоснованным, что оно было вынесено большинством лишь одного голоса, и совет был собран не полностью» (ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 1173. Л. 19об.). Ссылка на социальную несправедливость в отношении исключенного студента порой граничила с доносом (аноним, 1929): «занимаются такие, которые 3 года тому назад были золотовалютчиками и т.п., поработали год, надели маску пролетария и спокойно занимаются» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 60 об.).
Студенты в своих нарративах, особенно в аргументационной части, фактически осуществляли символическое кодирование, переводя свои прошения на язык, доступный чиновнику. Весьма распространенным доводом была апелляция к преимуществам советской системы: «…почему я прибегаю к Вам (прокурору. – А.Р.), как к защитнику революционных прав трудящихся» (ж., 1929; ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 101. Л. 21об.); «…ведь у нас, Михаил Иванович, Советская Республика раскрепостила женщин и предоставила возможность женщинам из кре- стьян получить образование, дабы в рядах красных строителей социализма могла быть женщина» (ж., 1926; ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 5. Д. 359. Л. 13 об.). Особенно популярной была апелляция к ленинскому лозунгу на III съезде РКСМ (ж., 1929): «В Советском Государстве, по нашему мнению, молодое поколение должно быть равноправно, так как молодому поколению придется строить новую личную жизнь, и уничтожать остатки старого дряхлого быта; тем более, что Ленин оставил молодому трудящемуся поколению завет: учиться, учиться и учиться» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 5 об.).
В апелляциях на отчисление из вуза почти все исключенные студенты ссылались на свое пролетарское происхождение, заслуги (свои или родителей) перед советской властью либо на отсутствие связи с родителями, лишенными прав (м., 1929): «…мой отец в 19 году состоял красным партизаном, и в результате деникинцами было сделано распоряжение конфисковать его имущество, а также был объявлен вне закона. До взятия города красными он скрывался с семьей в горах, а также был с отрядом красных партизан до прибытия красных, который воевал против белых» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 33–34).
Нередко авторы открыто льстили адресату или расставляли для него психологические «ловушки» в своих попытках обосновать просьбу: «В Вашем лице я убедился, какую огромную, обаятельную силу имеет высшая государственная власть» (м., 1928; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 96); «…я думаю, что Вам понятны моя мысль и просьба помочь мне и словом, и делом в моей работе. Я надеюсь, что Вы мне ответите, и я не стану “жертвой” холодного формализма и мой энтузиазм найдет отклик в Вашем сердце» (м., 1929; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 54).
Доносы в «чистом» виде, как правило, вместо документальных подтверждений содержали безапелляционные стигматизации, маркеры идеологической чуждости советскому обществу: «… Корф Мария <…> идеологически не подходит к пролетарскому студенчеству. <…> По неофициальным сведениям, она является отпрыском баронского рода, но документальных сведений на сей счет не имеется» (ж., 1927; ЦДНИКК. Ф. 2813. Оп. 1. Д. 156. Л. 141); «…есть подозрения, что Дубсон Соломон, отец Дубсон Мирры, занимался торговлей и жил в Царицыне, а при белых в Новороссийске, где спекулировал» (м., 1929; ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 2. Д. 34. Л. 66об.). Нередко полный текст доноса сам по себе являлся «аргументом» (аноним, 1929): «…наше правительство заинтересовано в выпуске общественников, а не таких шкурников, как «студент» Талантов. <…> Как только наступает какой-нибудь праздник – попов у него полно, пьют и кадят, чтобы студент наш кончил ВУЗ благополучно» (ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 410. Л. 36).
Одним из самых распространенных в 1920-е гг. ultima ratio 3 был откровенный шантаж самоубийством. Очевидно, авторы таких писем полагали, что в эпоху эпидемии молодежного суицида этот аргумент может возыметь убеждающую силу: «…определенная нам столь суровая мера ввергает нас в отчаяние, и, будучи равносильна для нас гражданской смерти, прямо диктует единственный выход – самоубийство» (ж., 1928; ГАКК. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 1173. Л. 22); «…несколько лет тому назад в нашем городе образовался “черный кружок” – кружок смерти, члены которого по жребию кончали жизнь самоубийством. Тогда я этому удивлялся. Теперь начинаю понимать» (м., 1929; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 62); «…теперь единственный исход – это самоубийство. Вы с этим согласитесь, ведь иного ничего не может быть?.. <…> Умирать слишком тяжело – жаль старуху мать, которая так любит меня… » (м., 1928; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 491. Л. 40 об.).
Финальная часть нарратива (кода) – этикетные формулы прощания, обратный адрес, приписки, подпись, призывы и т.д. Они довольно разнообразны, кроме того, позволяют судить о социальном происхождении автора, его языковой компетентности. У студентов из крестьян, а также просителей зачислить на рабфак концовка эпистолярия нередко была бесцеремонной и эмоциональной (м., 1929): «Написал бы еще много… Э!.. да, что там – не могу, Анатолий Ва-сил., душит обида, большая обида… слезы. Помогите, хочу быть Человеком. Хочу… Панов Виктор. Надеюсь на Вас. Хочется с Вами поговорить» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 54).
Выходцы из интеллигентских семей, напротив, завершали послание психологически продуманно (ж., 1929): «Если бы обвинения касались меня как личности, я не стала бы беспокоить Вас настоящей просьбой, но обвинения добиваются лишить меня возможности общественной работы и учиться в пединституте, почему я прибегаю к Вам, как к защитнику революционных прав трудящихся» (ГАКК. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 101. Л. 21об.).
Коммунисты и комсомольцы, члены профсоюзов нередко к своим подписям добавляли номера своих партийных и союзных билетов (м., 1929): «Анатолий Васильевич, чтобы действительно вы поверили, что мы члены партии, то пишем номера партбилетов. Макеев Н.В. член Партии с 1928 г. первого районного Комитета г. Саратова № 58. Клюев В.К. №1222449» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 88 об.).
Характерным признаком студенческого эпистолярия «во власть» в 1920-е гг. было вложение почтовой марки в конверт как воможную гарантию получения ответа (ж., 1929): «Прилагая при сем марку, убедительно просим вас ответить на заданный нами интересующий нас вопрос по адресу…» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 515. Л. 5 об.).
Некоторые авторы напрашивались на личную встречу (м., 1929): «P. S. в 20-х числах марта (судя по газете ″Повол. Правда″, где помещена заметка о Вашем приезде в Саратов), Вы будете в Саратове, возможно мы сможем Вас там увидеть и там дополнить лично свою просьбу» (РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 55).
Были и прямые просьбы к вождям оказать конкретную материальную помощь: «Находясь сейчас в затруднительном материальном положении, прошу о выдаче мне литеры на бесплатный проезд и провоз 4-х пудов багажа» (ж., 1921; ГАКК Ф. Р-365. Оп. 1. Д. 923. Л. 89); «…дайте нам до получения мартовской стипендии <…> 5 руб., если конечно верите нам, как комсомолкам и студентам» (ж., 1929; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 45).
Анонимы завершали свои обращения весьма своеобразно: «Я желал бы, чтобы эта бумага была использована надлежащим образом: прочитана и уничтожена» (1929; РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 508. Л. 21); «…и если Вы бы ответили бы отрицательно на мое письмо, чтобы Вы не знали, кто Вам писал, и если нам придется встретиться, и чтобы Вы меня не узнали, то знайте, что Ваше письмо не будет никому показано и компрометировать я Вас не хочу. С комсомольским приветом. Облигация № 30 серия 046379» (1928; ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 64. Д. 6. Л. 180 об.).
Выводы
Историческая реальность предстает перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации. Одним из текстовых пластов, помогающих историку понять раннее советское общество, увидеть прошлое «сквозь маскарад нарративных структур» [ Анкерсмит , 2003а, с. 130], являются студенческие письма «во власть». Историческая дистанция, отделяющая нас от культуры 1920-х гг., в исследуемых нарративах видна в описании действительности того времени, существовавших тогда социальных проблем студенчества, его социальных практик, в том числе практик письменной коммуникации. Изученные нарративы предстают перед нами как «маленькие» истории «маленьких» людей, которые конструировали эти истории в соответствии со своими «решетками объяснений», обусловленными социальными нормами того времени. Как справедливо отмечают А. Голубев и С. Ушакин, рассмотренные письма эпохи – это «одновременно оттиск и матрица социальных отношений..., наглядный пример структурирующей структуры: социальные связи здесь сохраняются и модифицируются в процессе (вос)производства форм и формул эпистолярного жанра» [ Голубев, Ушакин , 2016, c. 9].
Наш небольшой опыт нарративного анализа писем студентов «во власть» позволил выявить повествовательные конструкты, логику построения сюжета, вплетение в эпистолярные тексты других контекстов. Несмотря на процедурные сложности комплексной обработки большого массива писем, нами выделены некоторые общие закономерности нарративной структуры обращений «во власть», а также частные случаи конструирования сюжетов. В обобщенном виде тексты студенческих писем «во власть» содержат, как правило, все структурные части нарратива: начальную, основную и финальную. Особым элементом основной части композиции является аргументация. Установлено, что аргументами заявителей были как рациональные, так и эмоциональные доводы, вплоть до шантажа суицидальным поступком в случае невыполнения просьбы. Нас интересовало не определение степени достоверности описанных историй, а выявление смыслов и значений, которые придавали им нарраторы в процессе организации своих текстов. Очевидно, что авторы писем о многом умалчивали, догадываясь о политических табу, конструировали свои тексты с учетом доминирующего дискурса. История у каждого была индивидуальная, но опыт переживаний травмы был коллективным, студенты не могли не обмениваться своими историями друг с другом. Вероятно, наряду с поколенческим габитусом и общими для студенчества социальными проблемами это и определяло почти «лекальные» смысловые схожести в эпистолярной наррации. Нарративный анализ позволил изучить взаимосвязи макро- и микроуровней раннего советского общества, процессы социального (вос)производства и социальных изменений. Это дает основание предположить, что посредством писем вождям власть-влияние распределялась между студентами и структурами официальной власти, которые в той или иной мере были вынуждены учитывать их запросы, мнения и настроения.
Список литературы (Де)конструируя письма вождям: анализ студенческих обращений к власти в 1920-е годы
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-1235. Оп. 64. Д. 6. Л. 180-180 об.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 142. Оп. 1. Д. 491. Л. 40 об.; Д. 508. Л. 18-21, 45, 54-55, 60-61 об., 88-88 об., 96; Д. 515. Л. 4-5 об., 11-12, 33-34, 54, 60-62.
- Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 101. Л. 21 об.; Д. 410. Л. 36; Д. 411. Л. 157; Д. 421. Л. 450; Оп. 2. Д. 34. Л. 66 об.; Ф. Р-365. Оп. 1. Д. 923. Л. 89; Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 1173. Л. 19 об., 22; Оп. 5. Д. 359. Л. 13-13 об.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 2813. Оп. 1. Д. 156. Л. 141.
- Андреев Д. А. Советский студент первой половины 1920-х: особенности самопрезентации // Социол. журнал. 2007. № 2. С. 156-166.