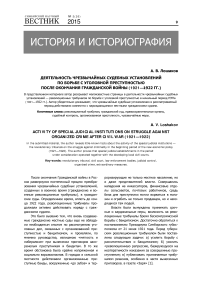Деятельность чрезвычайных судебных установлений по борьбе с уголовной преступностью после окончания Гражданской войны (1921-1922 гг.)
Автор: Лошаков Анатолий Викторович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.
Бесплатный доступ
В представленном материале автор раскрывает малоизвестные страницы в деятельности чрезвычайных судебных установлений - революционных трибуналов по борьбе с уголовной преступностью в начальный период НЭПа (1921-1922 гг.). Автор убедительно доказывает, что чрезвычайные судебные установления в рассматриваемый период действовали совместно с нарождающимися местными гражданскими судами.
Революционный трибунал, гражданский суд, правоохранительные органы, судебный контроль, организованная преступность, чрезвычайные меры
Короткий адрес: https://sciup.org/14114104
IDR: 14114104
Текст научной статьи Деятельность чрезвычайных судебных установлений по борьбе с уголовной преступностью после окончания Гражданской войны (1921-1922 гг.)
После окончания Гражданской войны в России развернулся постепенный процесс преобразования чрезвычайных судебных установлений, созданных в военное время (гражданские и военные революционные трибуналы), в гражданские суды. Определенное время, вплоть до конца 1922 года, революционные трибуналы продолжали активно действовать наряду с гражданскими судами.
Это было вызвано тем, что вновь создаваемые гражданские местные суды еще не обладали необходимым опытом по рассмотрению уголовных дел, связанных с организованной преступностью и бандитизмом, и проявляли, по мнению руководства, излишнюю «мягкость и либерализм» при вынесении приговоров закоренелым преступникам и бандитам. В то же время обстановка была крайне напряженная и социально взрывоопасная. В городах и сельской местности действовали организованные преступные банды, вооруженные «до зубов» и тер- роризирующие не только местное население, но и даже представителей власти. Совершались нападения на инкассаторов, финансовые отделы сельсоветов, почтовых работников, средь бела дня преступники могли ворваться в магазин и ограбить не только продавцов, но и находящихся там людей.
Власти были вынуждены принимать срочные и кардинальные меры, возложить на революционные трибуналы бремя бескомпромиссной борьбы с бандитизмом. Достаточно обратиться к постановлению Президиума Симбирского губис-полкома от 21 июня 1921 года. Перед губернским революционным трибуналом были поставлены следующие задачи: а) усилить борьбу с расхитительством и бандитизмом; б) усилить «революционную репрессию, базирующуюся на неотвратимости наказания за совершенные преступления; в) публиковать принимаемые трибуналом решения, особенно в части вынесенных приговоров, в газете «Заря» [1].
Наиболее сложной работой, которую в 1921—1922 гг. выполняли революционные и военные трибуналы, было искоренение бандитизма в губерниях Среднего Поволжья. Эта беда захлестнула практически все губернии — Симбирскую, Самарскую, Пензенскую, а также Татарскую АССР.
В тяжелейших условиях послевоенной разрухи, в трудный период начала НЭПа правоохранительные органы, опираясь на революционные трибуналы, в рекордно короткий срок сумели быстро справиться с этим явлением, искоренить бандитизм и прекратить разгул организованной преступности. Этот положительный опыт представляет значительный интерес и для современности.
Возьмем в качестве показательного примера события в Симбирской губернии. Например, в 1921 году наибольшее количество преступлений было совершено на территории Сызранского и Ардатовского уездов Симбирской губернии [2]. Несмотря на все предпринимаемые правоохранительными органами усилия, в уездах губернии продолжал процветать вооруженный бандитизм. В течение 1923—1925 гг. население Гурьевской, Жадовской, Гореловской волостей Карсунского уезда подвергалось небывалому бандитскому террору. Для каждой крестьянской семьи бандитами была установлена своеобразная дань для представителей «лесных братств». Бандиты отнимали урожай, продукты, призывали к актам неповиновения требованиям представителей советской власти.
Наиболее опасным местом в Симбирской губернии, где процветал массовый бандитизм, в эти годы был Промзинский район Алатырского уезда. Здесь, как и в селе Судосеево, и до революции не сильно жаловали представителей царской администрации, не один раз даже избивали исправников и жандармов. Многочисленные банды орудовали и в соседних Карсун-ском и Ардатовском уездах. Население, страдавшее от бандитов, потребовало на многочисленных митингах и сходах от местных органов власти и правоохранительных структур искоренить бандитизм.
Центральные и местные органы власти, во многом опираясь на деятельность революционных трибуналов, начали свою работу по искоренению бандитизма с налаживания работы правоохранительных органов. Судьи, милиционеры, сотрудники ГПУ развернули, опираясь на местное население, широкую поисковую и профилактическую работу.
Главную роль в ликвидации бандитизма сыграли революционные и военно-революционные трибуналы и работавшие в тесном сотрудничестве с ними местные отделы Государственного политического управления (ГПУ). Следствие по делам о вооруженном бандитизме было изъято из ведения милиции и велось исключительно работниками ГПУ [3].
Выполняя требования инструкции ЦИК СССР от 6 февраля 1922 года, при НКВД с участием ГПУ создавали специальные комиссии по высылке «социально опасных категорий граждан». Именно ГПУ с участием некоторых представителей НКВД, революционных трибуналов, входящих в комиссию, было предоставлено монопольное право высылать эти категории граждан за пределы страны либо заключать их в специальные лагеря принудительных работ (концентрационные лагеря до 1922 года) сроком до 3 лет без суда. В категорию «социально опасные элементы», согласно вышеупомянутой инструкции ЦИК, входили не только прямые пособники и укрыватели бандитов, но и члены их семей, близкие друзья и знакомые. Сюда также относились лица, дважды осужденные по статьям 76, 85, 93, 170, 171, 180, 182 УК РСФСР, принятого в 1922 году.
Работа по социальной санации неспокойных районов проводилась серьезная. Все лица, причастные к совершению преступлений, хранившие и скупавшие краденое, а также родственники бандитов, лица, укрывавшие преступников, безжалостно выселялись.
С бандитами развернулась беспощадная и бескомпромиссная борьба. При этом не стоит забывать о том, что по фактам вооруженного бандитизма, разбойных нападений, которые происходили в губернии, работникам ГПУ было предоставлено право согласно п. 37 Положения производить над задержанными лицами, даже подозреваемыми в совершении преступлений, «внесудебную расправу», то есть правоохранителям было предоставлено право расстреливать на месте преступления всех лиц, задержанных с оружием в руках, участвующих в совершении преступлений, а также укрывавших преступников. Массовые расстрелы пойманных бандитов и их пособников, конечно же, возымели действие. Случаи расстрела пойманных бандитов на месте преступления были зарегистрированы практически во всех уездах губернии. Были расстреляны десятки задержанных преступников. Особенно много в 1921 году было расстреляно бандитов в Ардатовском и Карсунском уездах (бо- лее 300). Это во многом сбило с бандитского «братства» пыл и кураж [4].
Как показывает проведенное исследование, после окончания Гражданской войны, которое многие историки связывают с освобождением Крыма от войск барона Врангеля, военные трибуналы какое-то время не были расформированы, несмотря на строгие декреты ВЦИК и СНК. Во-первых, они продолжали существовать при трудовых армиях, которые были окончательно расформированы только в 1921—1922 гг. Во-вторых, какое-то время в 1921—1922 гг. продолжала сохраняться система милитаризованного труда , в первую очередь на фабриках и заводах, выпускающих военную продукцию, где также продолжали функционировать революционные трибуналы [5].
Революционные трибуналы продолжали сохраняться в губерниях и уездах. В связи с переходом страны на мирное положение, на ревтрибуналы были возложены новые задачи. Ревтрибунал Республики в циркуляре № 178 от 12 марта 1922 года предлагает всем ревтрибуналам строго наказывать за преступления, направленные против военных предприятий, заводов, работающих на восстановление транспорта и экономики [6].
Важное значение придавалось деятельности сохраняющихся в армии «революционных военных трибуналов», направленной на пресечение преступлений, связанных с демобилизацией армии [7]. В этих целях 20 января 1921 года было принято специальное распоряжение. В результате демобилизация была проведена быстро и организованно [8]. Главными объектами воздействия военных трибуналов стали поиск и наказание военных и трудовых дезертиров, многие из которых прятались в лесах.
Циркулярами Реввоентрибунала Республики № 4339 от 4 декабря 1920 года, от 14 января 1921 года № 19/332 на революционные военные трибуналы были возложены обязанности по надзору за соблюдением прав красноармейцев и гражданских служащих в РККА [9].
В своем циркуляре № 25/633 от 22 января 1921 года Реввоентрибунал Республики напомнил председателям революционных трибуналов о сохранении за ними обязанностей по общему надзору за деятельностью губернских и уездных военных комиссариатов [10]. Были и явные казусы. Циркуляром № 26/539 Реввоентрибунал Республики обязал революционные военные трибуналы контролировать процесс образования красноармейцев, что никак не должно было входить в функции реввоентрибуналов [11].
С началом перехода к новой экономической политике в 1921 году на губернские революционные трибуналы были возложены совершенно новые, ранее не свойственные им задачи. Как следует из архивных документов, революционные трибуналы стали заниматься уголовными делами, связанными с экономическими преступлениями (хищение «народного» достояния). Так, в своем докладе, адресованном на имя председателя Симбирского губисполкома, председатель губернского ревтрибунала информировал его о тех непорядках, которые царили в деятельности тех учреждений, где возможными стали экономические преступления [12].
Бороться с экономическими преступлениями в период новой экономической политики революционные трибуналы были теперь обязаны в соответствии с циркуляром Верховного трибунала ВЦИК № 34 от 4 марта 1922 года. В этом документе революционные трибуналы обязали карать всех уличенных в «экономическом шпионаже», под чем понималось предоставление «ложных» планов, проектов относительно отраслей промышленности, злоупотребление служебным положением. Особо оговаривалась борьба с преступлениями в среде частного предпринимательства, которые нарушали Кодекс законов о труде. При этом предписывалось провести «ряд широких показательных судебных процессов» по делам, связанным с «извращением новой экономической политики» [13].
Кроме того, все революционные трибуналы в Самарской губернии получили указание начальника Рабоче-Крестьянской инспекции Приволжского военного округа о том, чтобы все дела, возбуждаемые РКИ, связанные с хозяйственными и должностными преступлениями, рассматривать в первую очередь. По завершении рассмотрения дел все копии приговоров по ним необходимо было предоставлять в РКИ [14].
Таким образом, революционные трибуналы внесли огромный вклад в утверждение законности и борьбу с уголовной преступностью в начальный нэповский период.
-
1. Государственный архив Ульяновской области (далее — ГАУО). Ф. 200. Оп. 2. Д. 811. Л. 29.
-
2. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 93. Л. 33 об.
-
3. Положение о Государственном политическом управлении (ГПУ). Гл. IX — XVIII (ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 29. Л. 5).
-
4. ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 29. Л. 5.
-
5. Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 24383. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
12
№ 2(20) СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ
2015 ВЕСТНИК
-
6. РГВА. Ф. 24383. Оп. 1. Д. 64. Л. 121.
-
7. РГВА. Ф. 24406. Оп. 1. Д. 72. Л. 12; Ф. 32836. Оп. 1. Д. 11. Л. 73, 96.
-
8. Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 1005. Оп. 11. Д. 26. Л. 25.
-
9. ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 11. Д. 26. Л. 20.
-
10. Там же. Л. 26.
-
11. Там же. Л. 27.
-
12. ГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 463. Л. 4 об.
-
13. НАРТ. Ф. 5451. Оп. 1. Д. 25. Л. 3.
-
14. ГАСО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 18. Л. 58.
-
Список литературы Деятельность чрезвычайных судебных установлений по борьбе с уголовной преступностью после окончания Гражданской войны (1921-1922 гг.)
- Государственный архив Ульяновской области (далее -ГАУО). Ф. 200. Оп. 2. Д. 811. Л. 29.
- ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 93. Л. 33 об.
- Положение о Государственном политическом управлении (ГПУ). Гл. IX-XVIII (ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 29. Л. 5).
- ГАУО. Ф. 1101. Оп. 3. Д. 29. Л. 5.
- Российский государственный военный архив (далее -РГВА). Ф. 24383. Оп. 1. Д. 24. Л. 20.
- РГВА. Ф. 24383. Оп. 1. Д. 64. Л. 121.
- РГВА. Ф. 24406. Оп. 1. Д. 72. Л. 12; Ф. 32836. Оп. 1. Д. 11. Л. 73, 96.
- Государственный архив Российской Федерации (далее -ГАРФ). Ф. 1005. Оп. 11. Д. 26. Л. 25.
- ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 11. Д. 26. Л. 20.
- Там же. Л. 26.
- Там же. Л. 27.
- ГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 463. Л. 4 об.
- НАРТ. Ф. 5451. Оп. 1. Д. 25. Л. 3.
- ГАСО. Ф. 116. Оп. 1. Д. 18. Л. 58.