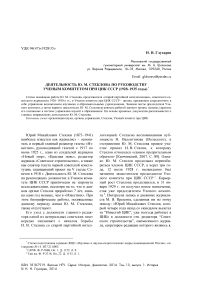Деятельность Ю. М. Стеклова по руководству ученым комитетом при ЦИК СССР (1928–1935 годы)
Автор: Глухарев Николай Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена работе Ю. М. Стеклова, представителя «старой партийной интеллигенции», известного советского журналиста 1920– 1930-х гг., в Ученом комитете при ЦИК СССР – органе, призванном сосредоточить в себе управление всесоюзными научными и образовательными учреждениями. Занимая посты председателя Ученого комитета, а затем первого заместителя, Ю. М. Стеклов руководил работой данного органа, пытаясь укрепить его положение в системе управления наукой и образованием. На основе архивных документов рассказывается о главных направлениях деятельности Ю. М. Стеклова.
Организация науки, органы управления, стеклов, ученый комитет при цик
Короткий адрес: https://sciup.org/147218998
IDR: 147218998 | УДК: 94(47)61928/359
Текст научной статьи Деятельность Ю. М. Стеклова по руководству ученым комитетом при ЦИК СССР (1928–1935 годы)
Юрий Михайлович Стеклов (1873–1941) наиболее известен как журналист – основатель и первый главный редактор газеты «Известия», руководивший газетой с 1917 по июнь 1925 г., один из создателей журналов «Новый мир», «Красная новь», редактор журнала «Советское строительство», а также как соавтор текста первой советской конституции, защищавший проект на V съезде Советов в 1918 г. Деятельность Ю. М. Стеклова на руководящих должностях в Ученом комитете ЦИК СССР практически не затронута исследователями, несмотря на то, что в данном органе Стеклов проработал 7 лет, лишь на один год меньше, чем в «Известиях». При этом биографические работы, посвященные данному периоду жизни Ю. М. Стеклова, также отсутствуют.
Его уход с должности главного редактора одной из центральных советских газет нередко связывают с началом борьбы И. В. Сталина со старой партийной интел- лигенцией. Согласно воспоминаниям публициста Н. Валентинова (Вольского), в отстранении Ю. М. Стеклова прямое участие принял И. В. Сталин, к которому Стеклов относился «самым презрительным образом» [Капчинский, 2007. С. 89]. Однако Ю. М. Стеклов продолжал переизбираться членом ЦИК СССР, а через три года, 12 июля 1928 г. неожиданно был назначен заместителем председателя Ученого комитета при ЦИК СССР 1. Карьерный рост Стеклова продолжился, и 31 января 1929 г. он получил новое назначение, став уже председателем Ученого комитета 2. Интересна запись в дневнике журналиста М. Я. Презента, сделанная им по этому поводу: «Юрий Михайлович Стеклов, который четыре года назад со скандалом вылетел из “Известий ЦИК”, уже полгода работает в ЦИКе в должности отв. редактора “Советского строительства”, ежемесячного журнала, секретарем редакции которого являюсь я.
* Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», соглашение № 14. В37.21.0003.
Постепенно Стеклов повышается в чинах… Стеклов еще не считает себя потерянным человеком. Колоритная фигура. Смесь большой эрудиции, бойкого пера и потрясающего нахальства…» 3. Известно также, что кандидатура Стеклова обсуждалась и при смене руководителей Главнауки Наркомата просвещения, что вызвало острую реакцию, в частности, заместителя наркома В. Н. Яковлевой [Берлявский, 2008. С. 135– 136]. Действительно, Ю. М. Стеклов обладал сложным характером, не избегал резких высказываний и отличался высоким самомнением.
Следует отметить условия, в которых Ю. М. Стеклов занял новую должность. На рубеже 1920–1930-х гг. в период «культурной революции» постановка науки на службу «социалистического строительства» на фоне экономической модернизации, а также обновление кадров науки и образования являлись важнейшими задачами, поставленными высшим руководством страны. При реализации этих задач наметилось столкновение интересов различных групп научных и политических деятелей, стремившихся, со своей стороны, занять доминирующее положение в научной сфере, а также различное отношение представителей власти к данным группировкам в зависимости от политических и идеологических пристрастий их членов. С одной стороны, высокие позиции продолжали занимать представители дореволюционной, традиционной науки, ученые с мировым именем, часто лишь внешне поддерживающие политику новой власти, сосредоточившиеся вокруг Академии наук и ее учреждений (С. Ф. Ольденбург, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, А. Е. Ферсман, С. Ф. Платонов и др.). С другой стороны, все более укреплялись позиции «марксистских» ученых, комакадемиков, которые во главе с М. Н. Покровским «вели наступление» на многих фронтах научной деятельности – от гуманитарных наук до естествознания. Организационно-контроли-рующим центром учреждений марксистской науки и образования с 1926 г. должен был стать Ученый комитет при ЦИК СССР, в ведение которого вошли Коммунистическая академия, Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, Институт Мозга, Комунивер-ситеты, с 1932 г. Институты красной про- фессуры и другие партийные учебные заведения.
Руководство общим образованием, а также техническими и естественными науками (в том числе Академией наук) сосредотачивалось в иных структурах, создаваемых и реорганизуемых в системе Совета народных комиссаров (Отдел научных учреждений, Комиссия по содействию работам Академии наук, Наркомат просвещения и др.). Одной из задач таких органов являлось встраивание «старых специалистов» в новую систему организации науки и образования, направленную на достижение практических задач развития советского государства. В связи с этим в конце 1920-х гг. проводились широкие кадровые «чистки» и перестановки руководителей. К управлению привлекались профессиональные революционеры: например, в 1928 г. руководителем науки Высшего Совета народного хозяйства был назначен Л. Б. Каменев, заведующим Главным управлением профессионального образования Наркомпроса РСФСР – А. Я. Вышинский. Летом (24 июля) было принято решение снять с должности и Наркома просвещения А. В. Луначарского, заменив его на А. С. Бубнова. Луначарский был переведен на должность председателя Ученого комитета при ЦИК СССР.
Реакция Ю. М. Стеклова на свою новую «отставку» отмечена в дневнике М. Я. Презента 24 июля 1929 г.: «Только что постановили снять Луначарского из Наркомпроса и назначили его вместо меня председателем Ученого Комитета при ЦИКе. Даже меня не спросили. Правда, Калинин, Томский и Молотов – последний по телефону – сказали мне, что я сам считал работу в Ученом комитете слишком маленькой для себя. Но я возмущен тем, что мне приходится отдуваться за всякие штучки Луначарского. Я так возмущен, что даже не спросил, почему его сняли» 4. Тем не менее к самому А. В. Луначарскому Ю. М. Стеклов относился все же с большим уважением и остался работать вместе с ним в качестве его первого заместителя.
Согласно положению, на Ученый комитет возлагались общее руководство и контроль над всеми сторонами деятельности подведомственных учреждений, утверждение планов их научно-исследовательских, учебных и литературно-издательских работ, методическое руководство, предварительное рассмотрение положений, смет и штатов учреждений, назначение руководящего состава учреждений с представлением «в надлежащих случаях» на утверждение Президиума ЦИК СССР [СЗ, 1927. № 34. Ст. 355]. Однако место Комитета в системе управления наукой и образованием не было четко определенным. Комитет формально имел статус всесоюзного органа. Но в ряде случаев подведомственные научные и образовательные учреждения (преимущественно партийного характера) относились к требованиям Комитета, как к необязательным 5. Требовалось окончательное юридическое закрепление положения органа, стоящего во главе целого ряда важных учреждений марксистской науки и образования. Первым шагом Ю. М. Стеклова (еще председателя) по оформлению статуса органа стало принятие на заседании Президиума Комитета которые 4 февраля 1929 г. решения о необходимости иметь собственную печать, подтверждавшую бы самостоятельную роль Ученого комитета. Решение встретило поддержку Президиума ЦИК, постановлением которого от 6 марта 1929 г. было дополнено Положение о Комитете по заведованию учеными и учебными учреждениями статьей 11, в которой говорилось, что Комитет имеет печать с изображением герба СССР и названием органа [СЗ, 1929. № 21. Ст. 187].
О стремлении Ю. М. Стеклова навести порядок в работе свидетельствует и запись в протоколе заседания Комитета от 30 мая 1929 г. «о необходимости аккуратного посещения членами комитета заседаний и о целесообразности принятия мер, способных обеспечить аккуратность посещения некоторых членов комитета» 6. Также на заседании было признано необходимым разграничение и уточнение функций Президиума Комитета и его Пленума, для чего была образована комиссия под председательством Ю. М. Стеклова, которому тоже было поручено «поставить вопрос о расширении состава комитета в соответствующих организациях» 7. В результате состав Комитета на следующий год был увеличен до 18 чел. 8
Несмотря на это, Комитет по-прежнему испытывал недостаток в квалифицированных сотрудниках и в сотрудниках аппарата, что не позволяло серьезным образом руководить научной и методической работой подведомственных учреждений. Деятельность Комитета в ряде случаев приобретала формально-бюрократический характер. Ю. М. Стеклов, который был ответственным за взаимоотношения Комитета с партийными органами и ЦИК СССР, часто поднимал перед ними вопросы о дополнительном усилении Комитета сотрудниками, финансами и, самое главное, о юридическом закреплении за Комитетом прав, необходимых для осуществления всех возложенных на него задач 9. При этом новое положение о Комитете, разработанное заведующим научным сектором В. Т. Тер-Оганезовым при участии Ю. М. Стеклова, так и не было рассмотрено Президиумом ЦИК. Таким образом, юридическое закрепление компетенций Ученого комитета в полной мере не состоялось, Комитет не имел действенных рычагов давления на подведомственные учреждения. В целях исполнения ими решений Комитета необходимо было добиваться получения санкции Секретариата ЦИК СССР или ЦК ВКП(б). Данная работа легла на плечи Ю. М. Стеклова.
В этих условиях произошло дальнейшее расширение функций Ученого комитета. В 1930 г. правительством было принято долго подготавливающееся решение о принципиальной перестройке Академии наук СССР – оплота «старой» научной интеллигенции. Академия наук была переподчинена Ученому комитету, который должен был взять на себя организационный контроль над ее реорганизацией и дальнейшей работой. Кроме того, Комитет получил новые функции межведомственного и всесоюзного характера: рассмотрение вопросов участия СССР в международных научных съездах, конгрессах и конференциях, организация на территории СССР международных научных конгрессов, организация всесоюзных научных съездов и конференций, всесоюзных научных обществ, обеспечение научных библиотек новейшей литературой 10. Таким образом, задачи по координации науки в масштабе СССР (при отсутствии союз- ного Наркомата просвещения) были возложены на формально общесоюзный орган управления наукой и образованием, возможности которого в реальности оказывались ограниченными.
С 1933 г. в комиссии Комитета «по созыву общесоюзных научных съездов и конференций и по рассмотрению заявок на заграничные командировки и вопросов участия в международных конгрессах» председательствовал именно Ю. М. Стеклов. От него требовалось согласование заявок на выезды ученых в заграничные командировки с ЦК ВКП(б), а также составление политизированных отчетов об их результатах [Глухарев, 2011. С. 62–68]. Сохранилась обширная переписка заместителя председателя Ученого комитета с ЦК ВКП(б) с просьбами не затягивать партийной комиссии с принятием решений о выезде того или иного ученого, так как это нередко грозило даже срывом участия представителей СССР в международных научных конгрессах и конференциях 11.
Ю. М. Стеклов вместе с А. В. Луначарским в 1930 г. участвовал в работе правительственной комиссии по пересмотру устава Академии наук СССР. Члены комиссии были утверждены Ученым комитетом – преимущественно академики, вставшие на путь сотрудничества с советской властью, а также представители различных «пропартийных» и административно-государственных учреждений, составляющие почти половину общего числа членов комиссии 12. Однако в работе над уставом Академии наук Ю. М. Стеклов не играл самостоятельной роли, его задачей являлось лишь обеспечение представительства в комиссии административного аппарата.
Ю. М. Стеклов руководил всей повседневной работой Комитета, часто председательствовал на заседаниях его Пленума и Президиума во время частых заграничных поездок А. В. Луначарского. Председатель Ученого комитета даже нередко уступал Ю. М. Стеклову право вести заседания Комитета при своем присутствии на них, полагаясь на его способность четко следить за порядком обсуждения. Он также активно участвовал в работе временных и постоянных комиссий Ученого комитета. В чис- ле основных вопросов, в решении которых принимал непосредственное участие Ю. М. Стеклов, являлись сметно-финансовые и хозяйственные вопросы. С целью оперативного рассмотрения разрешения мелких текущих дел финансового характера Ю. М. Стеклов в 1932 г. ввел практику созыва так называемого распорядительного заседания в составе заведующих секторами Ученого комитета 13. Отсутствие оперативного фонда средств у Комитета, наличие которого требовали его сотрудники еще в 1929 г., заставило Ю. М. Стеклова пойти на ухищрения. Его предложение заключалось в передаче в распоряжение Председателя Комитета фонда в размере 2 000 рублей за счет экономии по сметам подведомственных учреждений с тем, чтобы председатель или и. о. председателя имел возможность тратить их на оплату различных работ, выполняемых для Ученого комитета. Предложение Ю. М. Стеклова было одобрено Пленумом 14 мая 1932 г. Президиумом Комитета 5 января 1934 г. сумма фонда была увеличена до 6 000 руб. 14
Помимо сметно-финансовых вопросов подведомственных учреждений, Ю. М. Стеклов непосредственно руководил разработкой инструкций для пересмотра состава научных и педагогических работников в подведомственных учреждениях на предмет соответствия лица занимаемой должности и правил ведения учета научно-педагогических кадров 15. Важным направлением учетной работы Ю. М. Стекловым называлось «изучение социально-политического лица», определение научной значимости и целесообразности использования научных работников, а также изучение социального состава студенчества, аспирантов, выдвиженцев. В соответствии с партийными указаниями провозглашалось укрепление научных и учебных учреждений наиболее квалифицированными работниками, но при этом «коммунизация» и «орабо-чивание» управленческих аппаратов учреждений 16.
В мае 1933 г. ЦК ВКП(б) принял решение передать Ученому комитету Высшие коммунистические сельскохозяйственные школы (ВКСХШ), при этом ограничив функции Ко- митета их материально-хозяйственным обеспечением. Ю. М. Стеклов выступал с неоднократными протестами, настаивая на более серьезной роли Комитета по отношению к передаваемым ему учреждениям. Он утверждал, что успешное выполнение функций по материально-хозяйственному обслуживанию учреждений реально только при условии возможности составления смет и штатов учреждений, а также наблюдения за организацией учебной и бытовой жизнью ВКСХШ 17. Непримиримая позиция заместителя председателя спровоцировала конфликт между Ученым комитетом и Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), обвинившим Комитет в том, что он «хочет воспользоваться случаем и удвоить свои штаты». Представитель партийного отдела категорично отстаивал позицию, что Ученый комитет не будет рассматривать никаких сметно-финансовых вопросов, учебных планов и методических программ ВКСХШ, предложив Комитету «не воображать, что ему позволено будет распоряжаться теми миллионами, которые ассигнованы на ВКСХШ, что распоряжаться ими будет только с.-х. отдел ЦК» 18. Конфликт закончился победой партийного отдела. Ученый комитет в итоге должен был только выполнять хозяйственные постановления Сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б).
Такое резкое ограничение компетенции Комитета, нарушающее сложившиеся принципы его работы, вызвало беспокойство у Ю. М. Стеклова, так же как и попытка ЦК ВКП(б) ввести в состав заместителей председателя и, соответственно, в состав Президиума Комитета своего непосредственного представителя. Ю. М. Стеклов увидел в этом даже возможное увольнение одного из действующих заместителей (т. е., видимо, себя), так как Положение об Ученом комитете предусматривало только 2 такие должности 19.
В конфликтной обстановке происходило утверждение штатов Ученого комитета на 1934 г. Исполняющий обязанности председателя Ю. М. Стеклов неоднократно направлял в адрес Секретариата ЦИК штатное расписание Комитета, настаивая на его скорейшем утверждении. Ознакомившись с ут- вержденным проектом, Ю. М. Стеклов обнаружил его несоответствие собственному. «Я уже готов был радоваться тому, что затянувшийся вопрос получил наконец разрешение, когда просматривая присланный мне документ обнаружил сильное отличие от моего – по одним должностям ставки увеличены, по другим уменьшены, существующие некоторые должности исключены и внесены другие и т. д. Все это сделано без моего ведома и согласия», – писал Ю. М. Стеклов заместителю секретаря ЦИК СССР А. В. Медведеву 20. Штат Комитета к тому времени состоял из 27 чел., однако Комиссия по сокращению штатов бюджетных учреждений предлагала оставить на 1934 г. лишь 20 штатных единиц 21. В связи с этим Ю. М. Стеклов вновь разослал письма в Секретариат ЦИК, требуя прислушиваться к пожеланиям самого Ученого ко- митета при решении его штатных и кадровых вопросов. Так, в письме А. В. Медведеву 10 апреля 1934 г. он обращался с просьбой предоставить «Стеклову право установить такие штаты, которые на основании опыта наиболее целесообразны для организации Ученого комитета» 22, а 13 апреля 1934 г. в письме к секретарю ЦИК А. С. Енукидзе указал: «Ученый комитет полагает, что он сам вправе выбирать тех лиц, которых он считает подходящими для работы в нем» 23. В результате длительного противостояния с Секретариатом и финансовым управлением ЦИК СССР Ю. М. Стеклов, благодаря настойчивости, добился утверждения его проекта по штатам и составу аппарата Комитета в количестве 27 должностных единиц. На 1935 г. было установлено уже 40 штатных единиц 24.
При обсуждении проекта постановления СНК СССР «Об ученых степенях и ученых званиях» в течение 1933 г. неоднократно оставались без внимания требования о включении Ученого комитета в перечень организаций, имеющих права присуждения ученых степеней и ученых званий в СССР. Несмотря на критику и сопротивление представителей Ученого комитета, 13 января 1934 г. был окончательно утвержден проект, подготовленный Всесоюзным комитетом по высшему
20 ГАРФ. Ф. Р-3316. Оп. 27. Д. 520. Л. 2 – 2 об.
техническому образованию (ВКВТО) при ЦИК СССР, в редакции, исключавшей участие в аттестационной деятельности Ученого комитета и дававшей широкие полномочия ВКВТО и наркоматам соответствующих ведомств [Козлова, 2001].
Консультационному подотделу ЦИК СССР Ю. М. Стеклов писал: «Авторы постановления совершенно упустили из вида существование огромного числа научных и учебных учреждений, подведомственных Ученому Комитету, но не подведомственных ни Комакадемии, ни какому-либо народному комиссариату просвещения союзной республики. Стоит назвать такие учреждения, как 8 институтов красной профессуры, 12 институтов марксизма-ленинизма и их подготовительные отделения, 2 востоковедных института и т. д. и т. п. и ряд научных учреждений, входящих в систему Ученого Комитета. Совершенно очевидно, что ни компетенция Комитета по высшей технической школе при ЦИКС, ни компетенция отдельных наркомпросов союзных республик не распространяется на эти учреждения Всесоюзного и преимущественно гуманитарного характера, которые входят в систему Ученого Комитета» 25. Требования Ю. М. Стеклова в итоге были выполнены в «Инструкции Комитета по высшему техническому образованию ЦИК СССР о порядке применения постановления СНК СССР от 13 января 1934 г.», утвержденной СНК СССР 10 июня 1934 г. 26 Примечание к одному из параграфов определяло роль Ученого комитета в присуждении ученых званий: «Комитет по заведованию учеными и учебными заведениями ЦИК СССР утверждает в ученых званиях по подведомственным ему научно-исследовательским институтам и высшим учебным заведениям» 27. Вскоре после этого в структуре Ученого комитета начала работу Квалификационная комиссия.
Первая половина 1935 г. для Центрального исполнительного комитета СССР прошла под знаком «кремлевского дела». В ходе дела НКВД были обнаружены «связанные между собой контрреволюционные группы» в аппарате ЦИК (Секретариате ЦИК СССР, Комендатуре Кремля, Правительственной библио- теке, Оружейной палате), который «оказался крайне засоренным чуждыми и враждебными советскому государству элементами». Секретарь ЦИК А. С. Енукидзе весной был снят со своего поста, а в июне на пленуме ЦК ВКП(б) исключен из партии «за политико-бытовое разложение» [Правда, 1935. 8 июня].
Практически сразу же, в июне, по всей стране, в Москве и Ленинграде прошли партийные активы, на которых «разъяснялись» решения Пленума. Обстоятельства «кремлевского дела» и отставки секретаря ЦИК СССР практически не освещались для общественности и были заменены кампанией по борьбе с «гнилым либерализмом», «ротозейством», «благодушием» и т. п. Такая упрощенная трактовка событий должна была неизбежно вызывать сомнения, в том числе и в партийной среде. Двадцать третьего июня состоялось собрание парторганизации ЦИК СССР, на котором во время обсуждения второго решения пленума ЦК – об А. С. Енукидзе – возник скандал вокруг выступления заместителя председателя Ученого комитета ЦИК Ю. М. Стеклова, посчитавшего, что обсуждение т. Енукидзе неуместно. В числе его высказываний были утверждения, что «за спиной» А. С. Енукид-зе стояли ответственные люди «повыше», что теперь все вокруг «лягают» Енукидзе, и что к этим людям Ю. М. Стеклов себя не причислял 28. Эти слова вызвали жесткую критику Ю. М. Стеклова на собрании и в итоге дорого ему обошлись. В июле 1935 г. председатель Ученого комитета В. П. Милютин в письмах И. А. Акулову, И. С. Ун-шлихту, К. Я. Бауману подробно описал «политически вредное» выступление Стеклова и потребовал в отношении него «определенные оргвыводы» 29. Вслед за этим В. П. Милютин направил письмо Н. Н. Ежову, в котором просил ЦК ВКП(б) «не откладывать освобождение от … работы Стеклова» 30. Похожие письма последовали в ЦК ВКП(б) на имя Н. Н. Ежова и А. А. Андреева от нового секретаря ЦИК И. А. Акулова. Необходимо отметить, что в вину Ю. М. Стеклову ставилось уже не только его выступление по поводу А. С. Енукидзе, но и то, что «Стеклов не обеспечен работой в деловом смысле и рядом действий подорвал свой авторитет руководителя» 31. Судя по всему, выступление Ю. М. Стеклова явилось лишь поводом для его устранения из Ученого комитета, в котором он пытался устанавливать свои порядки, имея ко всему прочему довольно сложный и амбициозный характер. Отношения Ю. М. Стеклова с коллегами складывались непросто, к тому же заместитель председателя Ученого комитета всегда остро реагировал на попытки оказания на него давления со стороны вышестоящих органов.
Решающим фактором в снятии Ю. М. Стеклова с должности стали результаты проверки деятельности Ученого комитета. В частности, в отчете указывалось: «Стеклов не интересуется работой секторов Комитета и нередко не знает их работу. По этим причинам он совершенно не пользуется авторитетом среди сотрудников Ученого комитета и подведомственных учреждений. Это снижает авторитет вообще Ученого комитета» 32.
Необходимо отметить, что уже в феврале 1935 г. во время «кремлевского дела» был арестован ответственный секретарь журнала ЦИК «Советское строительство» М. Я. Презент, дневник которого содержал записи множества откровенных высказываний представителей советской партийной и литературной элиты. Дневник, судя по всему, был просмотрен лично И. В. Сталиным, а затем возвращен наркому внутренних дел Г. Е. Ягоде для подробного разбирательства [Соколов, 2001. С. 24]. В дневнике М. Я. Презента имелись и записи 1929 г., компрометирующие Ю. М. Стеклова, связанные с его симпатиями к оппозиции. Например, М. Я. Презент записал: «Все симпатии Стеклова, конечно, на стороне т. н. правого уклона, т. е. Рыкова, Томского и Бухарина. Но он молчит, умело “соглашаясь” с генеральной линией партии» 33. В дневнике содержались и хвалебные оценки Стекловым Троцкого 34. В результате, в 1935 г. ограничились только отстранением Ю. М. Стеклова от работы, дальнейших мер против него тогда не было предпринято. Правда, вслед за отстранением Стеклова последовал пересмотр всего состава и аппарата Ученого комитета ЦИК СССР.
Третьего февраля 1938 г. Ю. М. Стеклов был арестован и обвинен в контрреволюционной деятельности в 1908 г., а также в выступлениях против методов коллективизации, отрицании ряда хозяйственных достижений. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР 23 апреля 1938 г. Ю. М. Стеклова приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, в 1941 г. он скончался в тюрьме из-за воспаления легких [Капчинский, 2007. С. 89].
Таким образом, на руководящих постах в Ученом комитете при ЦИК СССР Ю. М. Стеклов вынужден был заниматься ответственной и разноплановой работой. Первостепенное значение в этой работе имела реализация главных политико-идеологических установок коммунистической партии по организации советской науки и образования. Но при достаточно широком функциональном спектре реальные возможности Комитета были недостаточны. Последовательная работа по содействию научным и педагогическим программам, методическому руководству в учреждениях Комитета была затруднена рядом объективных обстоятельств. Это и чрезвычайная разветвленность сети подведомственных Комитету учреждений (преимущественно партийных после изъятия из ведения Академии наук СССР в 1933 г.), и нехватка сотрудников Комитета, и загруженность текущими, главным образом, финансовыми вопросами. Ю. М. Стеклов, на которого ложилась основная нагрузка в повседневной деятельности органа, не имел не только времени, но и необходимой квалификации для серьезного участия в обсуждении научных и учебных вопросов подведомственных учреждений в рамках компетенции Ученого комитета.
Следует отметить, что Ю. М. Стеклов всегда старался отстаивать интересы Комитета как органа управления научными и образовательными учреждениями, что не раз ему удавалось, несмотря на постоянное давление со стороны партийного аппарата. В деловом отношении Стеклов был сторонником рабочего порядка, дисциплины и компетентного принятия решений, что, несомненно, повернуло повседневную работу Ученого комитета в лучшую сторону в той мере, в какой это было возможно.
Необходимость уточнения статуса Комитета, обогащения его квалифицированными сотрудниками была очевидна для
Ю. М. Стеклова, но редко поддерживалась «директивными органами». Ситуация усугублялась его сложным характером, который неизбежно становился причиной многих конфликтов, как с вышестоящими, так и подчиненными учреждениями. В этих условиях в деятельности Ученого комитета, особенно после ухода А. В. Луначарского, начинал преобладать формально-бюрократический подход, который и стал одной из причин для критики Комитета в 1935 г. и последовавшего за ней увольнения Ю. М. Стеклова.
Список литературы Деятельность Ю. М. Стеклова по руководству ученым комитетом при ЦИК СССР (1928–1935 годы)
- Берлявский Л. Г. Государственно-правовое регулирование отечественной науки (1917-1929 гг.). Ростов н/Д, 2007. 151 с.
- Глухарев Н. Н. Деятельность Ученого Комитета при ЦИК СССР по регулированию международных научных связей (1930-1936)//Российский научный журнал. М., 2011. № 5 (24). С. 62-68.
- Капчинский О. И. Заключенный камеры № 33. Заметки о первом редакторе «Известий»//Журналист. 2007. № 2. С. 89.
- Козлова Л. А. «Без защиты диссертации…»: статусная организация общественных наук в СССР, 1933-1935 годы//Социол. журнал. 2001. № 2. С. 145-158
- Правда. 1935. 8 июня.
- Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1927. № 34; 1929. № 21.
- Соколов Б. В. Наркомы страха: Ягода. Ежов. Берия. Абакумов. М.: АСТ-Пресс Книга, 2001. 384 с.