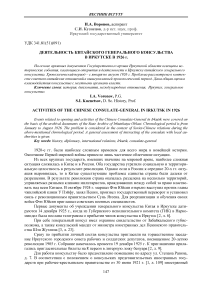Деятельность Китайского генерального консульства в Иркутске в 1926 г
Автор: Воронов И.А., Кузнецов С.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (41), 2013 года.
Бесплатный доступ
На основе архивных документов Государственного архива Иркутской области освещены исторические события, касающиеся открытия и деятельности в Иркутске китайского генерального консульства. Хронологический период - с января по август 1926 г. Проблема рассмотрена в контексте советско-китайских отношений в вышеуказанный хронологический период. Дана общая оценка взаимодействия консульства с местными органами власти.
История, дипломатия, международные отношения, иркутск, генеральное консульство
Короткий адрес: https://sciup.org/142148141
IDR: 142148141 | УДК: 341.81(51)(091)
Текст научной статьи Деятельность Китайского генерального консульства в Иркутске в 1926 г
1920-е гг. были наиболее сложным временем для всего мира в новейшей истории. Окончание Первой мировой войны принесло лишь частичное облегчение ситуации.
Из всех крупных государств, имевших значение на мировой арене, наиболее сложная ситуация сложилась в Китае и в России. Оба государства утратили социальную и территориальную целостность в результате революции. Однако если в России к середине 20-х гг. ситуация выровнялась, то в Китае существующие проблемы единства страны были далеки от разрешения. В результате революции страна оказалась разделена на несколько территорий, управляемых разными кликами милитаристов, враждовавших между собой за право властвовать над всем Китаем. В октябре 1924 г. маршал Фэн Юйсян открыто выступил против главы чжилийской клики У Пэйфу, занял Пекин, произвел государственный переворот и установил связь с революционным правительством Сунь Ятсена. Для реорганизации и обучения своих войск Фэн Юйсян приглашал советских военных специалистов.
Первые документы об учреждении генерального консульства Китая в Иркутске датируются 14 декабря 1925 г., когда из Губернского исполнительного комитета (ГИК) в Нарко-миндел была послана телеграмма о прибытии чинов консульства в Иркутск [2, л. 6].
При себе генеральный консул имел охранное свидетельство от Забайкальского губис-полкома, а также консульский мандат от министра иностранных дел Пекинского правительства Шэн Жуэлина [3, л. 23].
Сразу по прибытии личный состав консульства пригласили на торжественное заседание Иркутского городского совета рабочих и солдатских депутатов, посвященное 20-летию революции 1905 г. Собрание намечалось провести 19 декабря 1925 г. К приглашению прилагались пригласительные билеты на 8 персон в литерную ложу бенуара [2, л. 9].
Для работы консульству было предоставлено помещение по адресу ул. Степана Разина, д. 7. В соответствии с положением о консульских представительствах иностранных государств при рабочее-крестьянском правительстве от 30 июня 1921 г. [1, л. 109] иностранный консул должен был предоставить местным властям экзекватуру (документ от НКИД, удостоверяющий полномочия консула). Экзекватура от НКИД была получена только 10 февраля 1926 г. [3, л. 65], однако это не создало препятствий к сотрудничеству между китайским генеральным консульством и Губисполкомом в период с декабря 1925 г. по февраль 1926 г.
31 декабря в связи с наступлением Нового года генеральное консульство отправило в Губисполком список членов и служащих консульства. На службе в консульстве состояли следующие граждане:
-
1. Шиобин Ванчжан - генеральный консул и уполномоченный по делам китайских граждан в Сибирском крае. При нем жена Чжан Мари.
-
2. Вице-консул - Чжан Вынхуан.
-
3. Хуан Чен - секретарь консульства. При нем жена Хуан Ифынь и дочь Я Ду.
-
4. Ван Шаохо - атташе консульства.
-
5. Чжу И - делопроизводитель [3, л. 2].
Сразу же по прибытии в Иркутск генеральное консульство развернуло активную деятельность. Различные аспекты этой деятельности будут рассмотрены ниже.
Взаимодействие по административным вопросам между китайским генеральным консульством и местными органами власти
Как было сказано выше, отношения консульств с властями регулировались положением об иностранных консульских представительствах от 30 июня 1921 г. Однако это положение регулировало лишь самые общие права и обязанности консульств, так что некоторые вопросы регулировались отдельными сношениями консульств с местными органами власти. Если говорить о китайском генеральном консульстве в Иркутске, то в первую очередь оно договорилось с Губисполкомом о том, что консульская корреспонденция будет выдаваться во внеочередном порядке. Все время существования консульства в Иркутске это правило соблюдалось неукоснительно [3, л. 7].
В единственном случае, когда оно было нарушено, речь шла о простой небрежности экспедитора телеграфной конторы, который был подвергнут за это административному взысканию [3, л. 225].
Однако если внеочередность доставки корреспонденции соблюдалась, то по поводу пошлин возникали вопросы. 11 марта 1926 г. консульство подавало в губисполком жалобу на почтово-телеграфную контору, которая взимала с консульства пошлины за корреспонденцию. Губисполком ответил, что всякий случай незаконных действий местных органов в области налогов и сборов будет расследован по получении указаний от Народного комиссариата иностранных дел о пределах прав и преимуществ консульств по налогам и сборам [3, л. 163-164].
Консульство с недоумением отнеслось к такой ссылке на НКИД и указало, что, согласно положению о консульских представительствах (пункт 3-в), консульские представители освобождались от денежных и прочих повинностей. Кроме того, консулы освобождались от сборов и по нормам международного права. О сложившейся ситуации предполагалось сообщить в посольство [3, л. 166 об.]. В связи с этим губисполком составил более подробный ответ:
-
• налоги, сборы и повинности - это не одно и то же;
-
• представители иностранных государств освобождаются от налогов на принципах взаимности;
-
• предоставление местным консульским представительствам льгот по налогам и сборам возможно лишь по сношению с НКИД;
-
• на этом вопрос считается исчерпанным, большего по запросу консульства сделать невозможно [3, л. 169].
Сибкрайисполком и иностранный подотдел НКВД, однако, не были согласны с таким решением вопроса. Через Сибкрайисполком из НКВД последовало разъяснение, что взимание предписанных положением сборов и налогов предусмотрено лишь тогда, когда за грани- цей не освобождаются от сборов советские представительства, либо по особому распоряжению Наркомфина, согласованному в НКИД [3, л. 205].
Вопросы, касавшиеся деятельности консульства, не решались только перепиской. В феврале 1926 г. были установлены официальные часы приема генерального консула председателем губисполкома для личных переговоров – каждый понедельник, с 10:00 до 13:00. Первые переговоры были назначены 15 февраля, на время между 11 и 12 часами дня. К сожалению, каких-либо протоколов не составлялось, поэтому выяснить темы этих переговоров не представляется возможным.
Защита прав китайских граждан на территории Сибири
Основная обязанность консульства – защищать права граждан своего государства на подведомственной консульству территории другого государства. У китайского генерального консульства в Иркутске было достаточно подобного рода задач. Первый документ о деятельности консульства посвящен именно этой области деятельности.
29 декабря 1925 г. генеральный консул передал председателю Губернского исполнительного комитета жалобу родственников китайских граждан Ван Дяньчен и Маин Чен, которых арестовала милиция (первого – якобы из-за переписки на 11 листах, которая, по заверениям родственников, не содержала ничего противозаконного), второго – из-за найденных в его лавке 8 беличьих шкурок и 2 бутылок с веществом белого цвета) [3, л. 6]. Генеральный консул просил срочно рассмотреть это дело и освободить китайских граждан, если обвинения несостоятельны.
В ответном отношении от 30 декабря 1925 г. предгубисполкома Шиханов сообщил, что китайские граждане были арестованы за торговлю опиумом. Они продавали опиум контрабандистам, везущим его через Читу за границу. Предгубисполкома обещал, что дело будет рассмотрено по возможности без проволочек [3, л. 5].
-
4 января 1926 г. генеральный консул написал в Губисполком письмо, в котором просил урегулировать порядок выдачи патентов, торговых и промысловых свидетельств китайским гражданам. 12 января он получил ответ, что сделано распоряжение выдавать патенты, торговые и промысловые свидетельства лицам, именующим себя китайскими гражданами, только при предъявлении ими национальных паспортов или временных бесплатных свидетельств.
В этом же письме консул просил включить представителя генерального консульства в налоговую комиссию при Губернском финансовом отделе. Китайские граждане, проживавшие на территории СССР, были обязаны уплачивать положенные законом налоги и сборы, однако, зачастую не зная языка и не разбираясь в законах, попадали в различные недоразумения. Консул полагал, что представитель в налоговой комиссии сможет оказать помощь как властям, так и китайским гражданам в деле взаимопонимания. Прецедент присутствия представителя консульства в налоговой комиссии при ГФО уже имелся при работе консульства в Чите [3, л. 16].
-
13 января консул получил положительный ответ и на это обращение. Для удовлетворения просьбы консула Губисполком пошел на некоторые дополнительные меры. ГФО было предложено по возможности рассматривать дела китайских граждан на одном отдельном заседании, а представителю консульства, допущенному на заседания, давать право совещательного голоса. О дне таких заседаний Губисполком обязался заранее ставить в известность генеральное консульство [3, л. 14].
Консульство было благодарно за проявленную добрую волю. «Такое решение, а равно и поддержка, оказанная Губисполкомом в ряде других вопросов, свидетельствует, что местные власти СССР прежде всего думают о дружбе наших народов», – писал генконсул в своем отношении в Губисполком от 15 января 1926 г. Несколько заседаний налоговой комиссии по вопросам налогообложения китайских граждан были назначены на конец февраля 1926 г., уполномоченным от консульства выступал гражданин Лю Инсян [3, л. 59].
-
18 января консульство просило передать списки китайских граждан, перешедших в советское гражданство, если таковые имеются. Консульство сообщало, что имеет возможность совершенно освободить таких людей от китайского гражданства, согласно статье 12 китайского законодательства. Списки были желательны за все время наличия советской власти на территории Сибири – с января 1920 г. до открытия консульства в декабре 1925 г. Также консульство просило извещать его в случае перехода китайцев в советское гражданство [3, л. 51].
-
12 февраля Губисполком ответил, что случаев перехода китайцев в советское гражданство не зарегистрировано, просьба же извещать консульство впредь о таких случаях принята к сведению.
-
24 февраля начальнику административного отдела Губисполкома Мельникову поступило срочное сообщение от генерального консульства. В генконсульство поступила жалоба китайских граждан, притом одним из жалобщиков был как раз Лю Инсян. Китайцы жаловались, что в ночь с 23 на 24 февраля в их домах были попытки «произвести обыск». Лю Инсян дверей не открыл, ссылаясь на закон о запрете ночных обысков, а вот второй жалобщик, Бай Ло, открыл двери, и у него забрали товары и 10 руб. Протокол при этом не составлялся. Консульство констатировало, что, скорее всего, «обысками» занимались злоумышленники, переодетые в милицейскую форму. В случае обнаружения и задержания злоумышленников генконсульство просило административный отдел Губисполкома принять меры к возвращению денег и товара [3, л. 76].
В своем ответе 6 марта 1926 г. предгубисполкома Лосевич сообщил, что по законам советской республики обыски в ночное время могут производиться лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Это относится к притонам и районам скопления преступного элемента, когда внезапный ночной обыск необходим для своевременного задержания преступников. Такое законоположение не позволяло оповестить население, что ночные обыски производиться не будут.
Случаи с ночными обысками, а также прочие проблемы, касавшиеся взаимоотношений китайских граждан с местными властями (представительство китайцев при Губфинотделе, хранение необходимых для китайской кухни и медицины продуктов, вопрос личных оскорблений в адрес китайцев, практика китайской медицины), были изложены в памятной записке китайского генерального консула от 19 января 1926 г. [3, л. 79].
Все ответные сведения от Губисполкома были включены в отношение от 6 марта 1926 г. Помимо ответа об обысках, они гласили, что распоряжение о представительстве китайцев при ГФО отдано, что ГИК не возражает, если китайские граждане будут держать при себе предметы, не запрещенные к гражданскому обороту, при условии, что за эти предметы уплачена таможенная пошлина, что по вопросам оскорблений китайские граждане могут обращаться в народный суд, а если оскорбления нанесло должностное лицо при исполнении, то ГИК примет меры, и, наконец, что врачебная практика доктору китайской медицины Бурлакову и корейскому доктору Цой Ха Гири запрещена на основании советского Декрета о врачебной практике (они не закончили соответствующего учебного заведения и не имели диплома).
-
8 апреля 1926 г. в ГИК поступила жалоба от секретаря консульства, переданная торговцем Янь Лошу. В лавку этого торговца явился человек, представившийся сотрудником милиции и объявивший о грядущем выселении всех китайцев.
Как удалось выяснить в ГАО, этот человек был вовсе не милиционером, а сторожем 1-го городского отделения, которого послали в лавку Янь Лошу объявить последнему о вызове в 1-е отделение, куда приглашались все торговцы в связи с организацией в Иркутске института ночных сторожей. При допросе сторож объяснял свой проступок желанием пошутить. Шутку эту он повторял во многих лавках. Дознание было направлено народному следователю 1-го участка города для привлечения виновного к ответственности. Губисполком выразил свое сожаление о произошедшем [3, л. 102].
-
30 апреля 1926 г. поступила жалоба генконсульства на обыск у китайца Дунь Шуди и изъятие у него сундука, принадлежавшего служащему консульства Дай Шиучжюну. Обыск был произведен 19 апреля. Генконсульство просило начальника Губадмотдела Мельникова вернуть сундук гражданину Дай Шиучжюну, на что начальник административного отдела Мельников ответил, что в этом затруднений быть не может. Однако 26 апреля Дай Шиучжюн был приглашен в милицию в качестве свидетеля, причем милиционер, встретивший его на улице, вторгся в помещение консульства и удалился только после того, как ему выдали справку, что Дай Шиучжюн может быть отпущен в качестве свидетеля лишь после официального сношения консульства с ГИКом. Консульство протестовало против таких действий и ожидало срочного ответа ГИКа для уведомления Министерства иностранных дел [3, л. 124].
По ходу выяснения всех обстоятельств этого дела в ГИКе узнали следующее: сундук изъят в ходе обыска в доме по ул. Поплавской, 4. Дом пользовался дурной славой - в нем был расположен притон, где собирались воры, курильщики опиума, скупщики краденого и контрабандисты. В сундуке Дай Шиучжюна при обыске обнаружили контрабанду в виде 12 пар чулок и прочей галантереи. Хозяин дома Дунь Шуди заявил, что сундук принадлежит Дай Шиучжюну. Последний был обязан явиться на допрос, поскольку он был не членом консульства, а только служащим, и дипломатического иммунитета не имел.
Начальник ГАО Мельников, сообщивший эти сведения, также отметил, что генконсульство за последнее время брало под защиту только торговцев и различных содержателей притонов, где торгуют кокаином, бражкой и опиумом. Китайские рабочие нередко отказываются идти в генконсульство, мотивируя это тем, что им там делать нечего, и предпочитают жить по одному профсоюзному билету [3, л. 122].
Положительный ответ Губисполкомом был дан лишь относительно вторжений милиционеров в здание консульства - в ответном отношении было сообщено, что любой милиционер, вошедший в здание консульства без разрешения сотрудников консульства, будет подвергнут дисциплинарному взысканию [3, л. 116].
-
6 мая 1926 г. у дверей консульства произошел неприятный инцидент. Рассыльный Дай Шиучжюн вышел из консульства по делам, но на улице на него было совершено нападение -прохожий стал сначала оскорблять, а затем и бить его. На выручку подоспели другие сотрудники консульства, они же и вызвали милицию. Подоспевший милиционер отвел хулигана в участок. Консульство просило ГИК сообщить о результатах этого дела и о мерах, принятых для недопущения таких случаев в дальнейшем [3, л. 135]. Из ГИК поступил ответ, что нанесший побои китайцу-рассыльному привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РСФСР [3, л. 133].
Наиболее интересным вопросом в этом разделе была переписка о наложении штрафов на китайских торговцев в китайские национальные праздники - за неоткрытие лавок. Консульство заявило, что к ним 17 мая приходило несколько китайцев с повестками об уплате штрафов за неоткрытие лавок 13 февраля (китайский Новый год), несмотря на то что ранее ГАО снял эти штрафы [3, л. 139]. ГИК ответил, что повестки о штрафах были выданы ошибочно [3, л. 136]. 11 июня консульство сообщило в ГИК, что 14-15 июня в Китае - праздник Ша Дзи, и в течение этих двух дней консульство и китайские торговые лавки будут закрыты. Консульство просило распорядиться не штрафовать торговцев, что и было сделано [3, л. 147].
В архивном деле также имелась переписка, которая была посвящена экстрадиции преступника. В отношении председателю ГИК от 27 мая генеральный консул просил содействовать экстрадиции в Китай для судебного разбирательства некоего Иосифа Соломоновича Гольдберга, которого обвиняли в торговле морфием. В Цицикаре его отпустили на поруки, однако он нарушил поручительство и скрылся на территории СССР. По имевшимся данным, он скрывался в Иркутске [3, л. 158]. Председатель ГИК 2 июня ответил, что согласно типовой конвенции от 23 октября 1923 г. требования о выдаче уголовного преступника могут быть удовлетворены лишь в дипломатическом порядке, а посему по данному вопросу консу- лу надлежит обратиться непосредственно в Народный комиссариат иностранных дел [3, л. 157]. Кроме того, достоверно выяснить, где прячется Гольдберг, и задержать его не удалось [3, л. 232].
Некоторые коллизии возникали в области сборов с китайских граждан для оформления видов на жительство. По мнению консульства, плата с них взималась повышенная. Консульство в отношении от 27 мая настаивало на сборе в 7,45 руб., утверждая, что эти данные получены телеграфом от посольства в Москве и просило ускорить решение вопроса ввиду окончания сроков регистрации видов на жительство [3, л. 154].
К сему консульство добавляло, что оно оказывало техническую помощь ГАО, заполняя документы и анкеты и таким образом уменьшая накладные расходы. ГИК же сообщал, что сборы установлены следующие: для иностранных рабочих и служащих – 8,65 руб., кустарей – 8,75 руб., для лиц, живущих на нетрудовые доходы, – 9,55 руб. Большую разницу составлял прописочный сбор, с рабочих он составлял 10 коп., с кустарей – 20 коп. и с нетрудовых – 1 руб. [3, л. 146].
-
12 июня была получена телеграмма из вышестоящего органа – Сибирского краевого исполнительного комитета, где предлагалось взимать 7,4 руб. за вид на жительство для иностранцев и 7,15 руб. – за регистрационные отметки на паспортах. Однако вопрос оказался исчерпанным лишь на время. В отношении от 27 июня консульство вновь передавало жалобы, что с китайцев опять взимают повышенную плату за вид на жительство, более того, ГАО не выдавал им квитанции за все взысканные суммы [3, л. 220-221].
Ответ ГИК гласил, что жалобщики – граждане Лю Чанхуай и Чжан Вэньчунь, предъявили в ГАО только национальные паспорта без квитанций о взносе за регистрацию в 5 руб. в ГФО. 5 руб. с них взяли в ГАО, не дав квитанции, но сделав особые отметки в паспортах, а также взыскали гербовой сбор в 1,25 руб., плату за бланк в 25 коп., дополнительный взнос за регистрацию в пользу Красного креста в 50 коп. и по 1 руб. за прописные листки. На эти деньги были выданы соответствующие квитанции. Учитывая тот факт, что ГАО было предложено не взыскивать плату за прописные листки, сумма не превышала установленных 7,4 руб. На этом вопрос был исчерпан.
Последний важный вопрос, рассмотренный в переписке между органами местной власти в Восточной Сибири и китайским генеральным консульством в Иркутске, – это проект китайского общества «Взаимопомощь». Согласно отношению генерального консула в адрес председателя Сибкрайисполкома Эйхе от 10 мая 1926 г., общество было необходимо для связи между собой консульства и китайских граждан, так как разбросанные по территории Сибири китайцы не знают не только литературного, но и даже разговорного русского языка, а также советских законов. Отдельным отношением консул поблагодарил заместителя председателя ГИК Шиханова и начальника ГАО Мельникова за помощь в разработке устава общества [3, л. 269-270].
Сибкрайисполком 25 июня сообщил, что центральные органы советского правительства считают возможным утвердить устав общества «Взаимопомощь» [3, л. 265]. Однако на этом переписка местных органов власти и консульства заканчивается, и, к сожалению, текст устава общества также обнаружить не удалось.
Имущественные споры
В переписке между консульством и ГИКом довольно много внимания уделено такому вопросу, как возвращение генеральному консульству собственности бывшего китайского консульства, ликвидированного в 1920 г. Еще находясь в Чите, 25 октября 1925 г. генеральный консул передал в ГИК, что имеет инструкцию от своего правительства – вступить во владение имущества китайского консульства, которое не было в 1920 г. вывезено из Иркутска. Консульство просило ГИК разыскать эти вещи с тем, чтобы по приезде в Иркутск они были переданы сотрудникам вновь организуемого китайского генерального консульства. К сообщению консула прилагался список вещей (32 наименования, от чернильницы до литографической машинки и автомобиля). Кроме того, в консульстве находились ценные вещи, сданные китайскими гражданами на хранение (меха, драгоценности). Указывался адрес бывшего консульства - дом Кравца, на углу Большой и 4-й Солдатской [3, л. 35].
ГИК в ответ просил сообщить, когда и по какому акту были оставлены или переданы на хранение вещи бывшего китайского консульства [3, л. 31].
Уже по прибытии в Иркутск 2 февраля консульство дало ответ: актов и описей, по которым имущество было передано на хранение, предоставить невозможно, уточнить данные у бывшего консула Вэй Бо также невозможно, поскольку он спустя несколько дней по приезде в Китай в феврале 1920 г. скоропостижно скончался от нервного потрясения. Имущество было поручено неким китайским купцам, которые были выселены за границу уполномоченным Коминтерна. Имущество консульства поступило в ведение этого уполномоченного, который не дал китайским купцам на руки никаких расписок. У Министерства иностранных дел Китая был на руках только список инвентаря, который и был передан в ГИК. По имеющимся у консульства сведениям часть обстановки находится в бывшем помещении консульства, где ныне размещен музыкальный техникум, и может быть возвращена немедленно. Остальное имущество может быть возвращено по мере нахождения такового. Если поиски ни к чему не приведут, то утерянное имущество может быть возмещено или заменено ГИК или Губернским отделом местного хозяйства (ГОМХ). Консульство полагало, что ГИК сделает все возможное для возвращения имущества, тем более что имущество русских консульств в Китае сохранено в неприкосновенности и передано советским представителям без предъявления каких бы то ни было документов как знак доброй воли [3, л. 39].
Ответ из ГИК пришел на следующий день. Председатель ГИК был удивлен тем фактом, что консульство приводило лишь соображения общего характера, а также сведениями, будто бы китайские купцы были выселены уполномоченным Коминтерна. В 1920 г. власть осуществлялась Губревкомом. Никаких выселений китайцев не было и не могло быть. Представители Коминтерна в осуществлении власти не участвовали, так что сведения о выселении китайцев не имеют оснований. Соответствующие меры относительно имущества в здании музтехникума будут приняты, об этом консульство будет извещено. Что же касается прочего имущества, то без конкретных данных о местонахождении его розыск невозможен. Вопрос о возмещении или замене ГИК без указаний от центрального правительства решать не вправе [3, л. 38].
Консульство в тот же день ответило, что сожалеет о недоразумении, созданном предыдущим отношением (см. выше). Все обстоятельства были приведены лишь с целью указать причины, помешавшие консульству составить необходимые акты и описи. Таким образом, консульство в данных не отказывало, а не могло передать их за неимением. Что касается органа, в который вещи могли поступить, то сведения об этом были получены из МИД Китая и от гражданина СССР - очевидца событий 1920 г. Эти сведения могли быть неточны. Консульство пыталось проверить их через советских граждан, однако успеха не имело [3, л. 47].
Безуспешными впоследствии оказались и все розыски имущества ГИКом, в том числе и того, которое могло быть в здании музтехникума. 13 февраля временно исполняющий должность председателя ГИК Мохов сообщил генеральному консулу, что в 1922 г., когда музтехникум занял здание бывшего консульства, там не было никакого имущества, принадлежащего консульству [3, л. 54]. Переписка же, однако, продолжалась до июня, но не принесла никаких результатов.
Общие выводы
С самого появления генерального консульства в Иркутске отношения между ним и Гу-бисполкомом носили весьма дружеский и доверительный характер. Большинство запросов, которые делало консульство , разрешались положительно и даже более того, ГИК иногда предпринимал дополнительные действия для лучшего удовлетворения запроса консульства . Однако при этом ГИК не забывал отстаивать свою позицию, основанную на твердом соблюдении советского законодательства. В тех редких случаях, когда просьбы консульства не выполнялись, это было связано либо с противоречиями законодательству, либо с физической невозможностью выполнить требования.
Такие отношения сложились благодаря пока сохранявшимся дружеским отношениям советского и гоминьдановского правительств. Пока, ибо после смерти Сунь Ятсена в марте 1925 г. в Гоминьдане наметился раскол между националистами и коммунистами. После административной реформы советского правительства, которая упразднила губернии и ввела деление на округа, генеральное консульство продолжило вести дела с местными властями вплоть до советско-китайского конфликта на КВЖД в 1929 г. Однако весной 1927 г. советско-китайские отношения значительно ухудшились после антикоммунистического переворота в Шанхае. Это не могло не сказаться на отношениях консульства с местными властями. За весь период деятельности консульства с 1926 по 1929 г. наиболее позитивные отношения генерального консульства с местными властями существовали лишь в 1926 г.