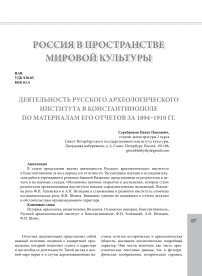Деятельность Русского археологического института в Константинополе по материалам его отчетов за 1894-1910 гг
Автор: Серебряков П.П.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Россия в пространстве мировой культуры
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ деятельности Русского археологического института в Константинополе за весь период его отчетности. Рассмотрены научная и исследовательская работа учреждения в регионах бывшей Византии, представление ее результатов в печати и на научных съездах. Обозначены научные открытия и достижения, которые стали результатом организованных институтом поездок и археологических экспедиций. Показана роль Ф.И. Успенского и А.И. Нелидова в становлении и развитии института, отмечена исследовательская роль Ф.И. Шмита. Внимание уделено не вошедшим в отчеты деталям и обстоятельствам организационного характера
История, археология, византология, византия, османская империя, константинополь, русский археологический институт в константинополе, ф.и. успенский, а.и. нелидов, ф.и. шмит
Короткий адрес: https://sciup.org/170205830
IDR: 170205830 | УДК: 930.85
Текст научной статьи Деятельность Русского археологического института в Константинополе по материалам его отчетов за 1894-1910 гг
Отчетная документация представляет собой важный источник сведений о конкретной организации, который позволяет судить о характере и масштабах ее деятельности. Такой взгляд в полной мере верен и в случае дореволюционных на- учных отчетов исторических и археологических обществ, носивших исключительно подробный характер. Они могли включать как чисто археологические текстовые данные, так и фотографические изображения, исторические справки, образцы текстологического анализа и т.д. В качестве исторических источников, они имеют определенную специфику, вызванную способом отбора и представления в них информации.
В рассматриваемых отчетах затрагивается весь период функционирования Русского археологического института в Константинополе, действовавшего в 1894–1914 гг. Выбор учреждения обусловлен его статусом в истории изучения территорий бывшей Византийской империи, а также его связью с известными учеными-византологами Ф.И. Успенским (1845–1928) и Ф.И. Шмитом (1877–1937).
Русский Археологический институт в Константинополе (далее — РАИК) был создан по инициативе посла в Константинополе и впоследствии почетного председателя данного института А.И. Нелидова. Это можно проследить по тексту письма, которое было отправлено им на имя Министра Народного Просвещения в 1888 г.1 С точки зрения А.И. Нелидова, создание подобного учреждения способствовало бы укреплению позиций России в новой сфере знания (исследовании Византии), до того занимавшей место академического «придатка» отечественной истории. Учреждение функционировало на территории Османской империи с 1894 по 1914 гг. За это время ему удалось добиться значительных успехов в своей деятельности, привлечь к участию и сотрудничеству целый ряд отечественных специалистов.
Одно из первых мест среди них следует отвести директору РАИК, византологу Ф.И. Успенскому. В целях уточнения направлений исследования на первом торжественном заседании института им рассмотрено понятие «византинизм», через которое он пытался объяснить те особенности устройства жизни, которые проявили себя на Востоке, но не на Западе. Среди таких отличительных признаков Византии он назвал четыре: постепенная замена латинского языка греческим, борьба национальностей за политическое влияние, возникновение новых типов в искусстве, замена античных преданий по преимуществу иранскими2. Им же был осмыслен и выбор Константинополя в качестве места расположения института. Это было связано с необходимостью разрыва с тема-
1 Известия Русского археологического института в Константинополе (РАИК). Т. I. Одесса, 1896. C. 10.
тикой «классической» археологии, в основном занимавшейся античностью. Далее в отчетах эта тема была отодвинута на второй план практическими исследованиями и рассмотрением обстоятельств хозяйственного характера.
Из таковых можно выделить бюджет учреждения, который несколько раз увеличивался. Впервые — в 1898 г. благодаря ходатайству А.И. Нелидова перед императором Николаем II. В 1899 г., по рекомендации Государственного Совета и личному решению императора, при институте открылась должность еще одного научного секретаря, что было связано с расширением поля его деятельности. На торжественном заседании в честь дня основания отмечалось, что год от года положение института улучшается. В связи с этим, при участии Министра Народного Просвещения, были предприняты две новые инициативы3. Одна из них — командирование молодых специалистов в Константинополь для занятий под руководством института, вторая — строительство для учреждения собственного здания (по ходатайству со стороны учреждения). В 1902 г. Священный Синод также разрешил командировать в РАИК стипендиатов духовных академий для занятий церковной историей и археологией.
Одним из двух магистрантов, командированных в 1901 г. в Институт, являлся в будущем известный искусствовед Ф.И. Шмит4. В следующем же за этим 1902 г. им предпринята попытка изучения истории исследуемой институтом мечети Кахриэ-джами. Как указывает в своих письмах Ф.И. Шмит, сделано это было «по совету профессора А.А. Павловского и с одобрения академика Ф.И. Успенского»5. В тексте отчета данный момент в подробностях не раскрывается. По окончании им была представлена к печати статья, посвященная мозаикам и фрескам указанного объекта6, восходящего еще к византийской эпохе. C целью продолжения своих исследований он был откомандирован на Афон, а в 1903 г. — в Грецию и Италию. В 1908 г. Ф.И. Шмит вернулся в институт в качестве научного секретаря. Помимо этого, в 1910 г. он совершил поездку в Салоники и на Хиос. Его целью являлось ознакомление с мозаиками, открытыми в трех сооружениях Салоники: Кассимиэ-джами, храме святой Софии и Эски-джума. Живопись последней была признана исследователями института одним из наиболее выдающихся (и тогда еще не изданных) образцов «христианской антики»7. Главным способом их издания являлось помещение сведений в «Известия» РАИК, последний том которых был издан в 1911 г.
Всего институт успел издать шестнадцать томов. Многие из них включали, помимо научных статей, годовые отчеты учреждения, а некоторые — сразу несколько отчетов. В них, в объеме в среднем в тридцать-сорок страниц, последовательно раскрывалась научная, исследовательская и собирательская деятельность учреждения. Увеличение количества рисунков, планов и таблиц с 1902 г. привело к необходимости стандартизации издания, приведения его к формату типичному для археологических журналов. Это выражалось в расположениях таблиц при тексте, что и было сделано, начиная с VIII тома8.
В начале отчета всегда находилась краткая аннотация (не более страницы), дающая представление о достижениях учреждения за год. За этим следовало описание научных заседаний и прослушанных на них докладов, затем описывались поездки и археологические экспедиции членов института (зачастую именуемые «экскурсиями») и, наконец, давалось представление о характере осуществленной сотрудниками собирательской деятельности. В целях последней в РАИК существовала своя научная библиотека, а также музей («Кабинет древностей»). Пополнялись они за счет закупок, дарений частных лиц и обмена изданиями с другими учреждениями.
В случае музея, коллекции также пополнялись и путем археологических раскопок. Формирование рукописного и предметного собраний началось в первый же год существования ин-ститута9. Изначально решено было ограничиться лишь небольшим «антикварным кабинетом».
-
7 Известия РАИК. Т. XV. София, 1911. C. 287.
-
8 Известия РАИК. Т. IX. C. 407.
Первая реэкспозиция, связанная с увеличением количества экспонатов, произошла в 1898 г. Тогда музею было выделено новое помещение. В 1901 г. Кабинет Древностей переезжает на новое место в здании российского посольства, но и там это лишь две комнаты, оборудованные полками, большой витриной и шкафом для рукописей10. В 1903 г., по окончании переезда, сотрудниками института начата подготовка его предметных каталогов11.
Научная и собирательская деятельность учреждения распространялась на многие регионы Османской империи. География поездок и экспедиций включала Малую Азию, страны Балканского полуострова, Анатолию, а также Афон. На момент начала раскопок в 1896 г. в болгарском регионе серьезной конкуренции у отечественных специалистов не имелось12. В отчете за 1899 г. исследователями было выдвинуто предположение о существовании поселения рядом с деревней Абоба и начаты археологические раскопки неподалеку. По их сведениям, именно такое древнее поселение могло быть настоящим центром происхождения многих болгарских памятников, откуда впоследствии путем их хищения и передвижения, они попали в окружающие регионы13.
В отличие от Болгарии, Сирия являлась хорошо разработанным направлением отечественной археологии, находящимся под патронажем Императорского Православного Палестинского Общества. Однако, как отмечалось исследователями института в 1900 г., там до того «никогда не было производимо правильных раскопок»14. Результатом исследования стало содержащееся в Кабинете Древностей собрание фиксационных материалов, включавших, в том числе, снимки ныне утраченных сирийских памятников15. В 1898 г. положено начало изучению доисторического периода исто- рии Македонии16, что было связано с раскопками некрополя гальштатской культуры, обнаруженного при прокладке железнодорожной линии близ села Пателе.
С 1896 г. были задуманы и начаты также два новых больших проекта — совместное с Французской школой в Афинах изучение афонских памятников и собирание материалов по истории древних монастырей и церквей, находящихся в юрисдикции Константинопольского патриархата (при его участии). Указанный афонский проект института в первоначальном виде (совместно с Г. Милле) так и не был в итоге осу-ществлен17, что, впрочем, не нашло отражения в отчетах.
В 1907 г. в сербском археологическом журнале директором Национального музея в Белграде доктором М. Васичем выдвигалась мысль о реорганизации РАИК, который, по его задумке, должен был заниматься раскопками не только в европейской части Турции, но и на границе Европы и Азии. С этой целью институт разделился бы на специальные отделы с секретариатами в Сербии, Болгарии, южной России, и с центральным секретариатом в Константинополе18. Вновь указанная тема поднималась в 1909 г. На этот раз М. Васич предлагал открыть при институте отделения доисторических древностей. Высказывались соображения о возможности открытия такого отдела с последующей организацией экскурсий во Фракию и Македонию. Для достижения договоренности с турецкой администрацией, предполагалось включить в специально созданный при отделе комитет представителя турецкого Министерства народного просвещения19.
Необходимые соглашения об организации совместной работы с исследователями из славянских государств были достигнуты в Белграде и Софии в 1910 г. Встречался со своими иностранными коллегами непосредственно директор института Ф.И. Успенский. В 1911 г. им был со- зван съезд представителей Сербии, Болгарии и России. К выработанному на нем постановлению, однако, болгарские делегаты не примкнули и в экспедиции не участвовали. Первые раскопки отдела прошли в том же году в Винчи на берегу Дуная. Руководил ими М. Васич.
В 1911 г., на ежегодном торжественном заседании, директором РАИК был прочитан доклад памяти первого Почетного Председателя А.Н. Нелидова. В нем, в частности, указывалось, что это А.Н. Нелидов был тем, кто достиг соглашения с турецкими властями, давшем институту исключительное право на археологические работы20. Тем не менее, исследование Константинополя и окрестностей было сопряжено с рядом трудностей, главной из которых являлась необходимость брать в аренду или же покупать землю для проведения на ней раскопок21. Невозможность выполнить те или иные условия не всегда приводила к отказу. Так, в конце 1906 г. года началось исследование остатков Студийского монастыря в Константинополе (мечеть Имрахор-джами), что было связано с окончанием работ над Кахриэ-Джами, полное исследование которого представлено в XI томе «Известий». Данный памятник был выбран в связи с его исторической, а не художественной (как Кахриэ) ценностью, поскольку именно оттуда в свое время был получен устав Киево-Печерской лавры22.
Научные данные получались также путем переписки с представителями российских консульств, при их же содействии проводились некоторые экспедиционные исследования. Помогало наличие доступа к коллекциям Османского имперского музея (ныне — Стамбульский археологический музей)23. Наконец, некоторые сведения институт сам отправлял в заинтересованные учреждения, среди которых числились Императорская Академия Наук и Императорский Эрмитаж.
Помимо этого, он активно участвовал в жизни научного сообщества. В 1896 г. представители РАИК побывали на археологическом съезде, проходившем в Риге24. Ф.И. Успенский выступил на нем с девятью рефератами, среди которых были сообщения, связанные с изучением древностей Никеи и археологии Болгарии. Институт принимал участие и в XI Русском Археологическом Съезде, прошедшем в Киеве в 1899 г., а в 1905 г. состоялся Международный археологический съезд в Афинах, на котором РАИК представляли Ф.И. Успенский и Р.Х. Лепер. Директор института был избран председателем секции византийской археологии, перед которой стояла задача организации подготовительной комиссии для издания иконографии византийских императоров и корпуса памятников византийского искусства. В состав комиссии также был включен известный отечественный византолог Н.П. Кондаков25.
В 1909 г. на заседании института Ф.И. Успенским сделан доклад о втором Международном археологическом съезде в Каире. Помимо общей информации, связанной с развитием египетского искусства, рассмотрена позиция французского исследователя Ш. Диля, которым отмечалось влияние Египта на Византию26. Русские члены съезда представили доклады о торговле Египта с территориями черноморского побережья (Херсонес, Березань, Ольвия). В том же году, Ф.И. Успенский принимал участие в четвертом областном историко-археологическом съезде в Костроме. Будучи избран председателем секции церковных древностей, читал доклад о деятельности РАИК. Среди прочего в нем было указано о недоверии почившего обер-прокурора Священного Синода К.П. Победоносцева к идее создания подобного учреждения27. С его точки зрения, учреждение лишило бы Россию необходимых научных кадров. В докладе также перечислены основные открытия и достижения института за весь период работы.
До того институтом уже делались попытки комплексного осмысления собственной деятельности. Научные достижения РАИК были озвучены на торжественном заседании учреждения в 1905 г. Из открытых и описанных памятников выделен ряд наиболее значительных28. Сре- ди них можно встретить впервые отмеченное в отчете за 1896 г. Евангелие VI в., написанное серебром и золотом на пурпуровом пергаменте (пурпуровый кодекс из Сармисахлы). В указанном отчете оно называется наиболее ценным из приобретенных за тот год предметов. В 1899 г. обнаружена не раз отмеченная исследователями надпись царя Самуила конца X в. Эта надпись на тот момент являлась древнейшим образцом славянского языка и письма. Ко времени представления доклада кодекс уже содержался в Императорской публичной библиотеке в отдельном зале (РНБ. Греч. 537). При посредничестве Императорского посольства в Константинополе также приобретен Пальмирский камень с надписями на арамейском и греческом языках (Пальмир-ский таможенный тариф). Ко времени издания отчета за 1905 г. он уже находился в собрании Императорского Эрмитажа (ДВ-4187).
Другим важным памятником славянской истории признана печать славянской колонии в Малой Азии VII в. Также была найдена и объяснена надпись, указывающая на расположение границы Болгарии и Византии в начале X в., проходившей недалеко от Солуни. Изучены мозаики Кахриэ-Джами и драгоценное Восьмикнижие из Серальской библиотеки. Оба памятника отмечены в печати отдельными томами «Известий», посвященных им (тома XI и XII соответственно). Отдельно отмечены успехи института в раскопках в Болгарии и Македонии. X том «Известий» целиком посвящен раскопкам древней болгарской столицы.
В докладе можно встретить и сведения о роли Ф.И. Успенского в организации и поддержании работы Русского Училища в Константинополе. Первоначальные сто тысяч рублей были собраны для него А.И. Нелидовым. Впоследствии жалование вносилось, главным образом, со стороны Императорского Министерства Иностранных Дел29 Данный шаг был призван упрочить культурные позиции России в регионе.
Естественно, деятельность Русского археологического института в Константинополе не ограничивается указанными мероприятиями. Часть научных инициатив по тем или иным причинам не была включена в отчеты. Таков, например, его последний стамбульский про- ект, подразумевавший раскопки на месте уничтоженного пожаром турецкого квартала Кон-стантинополя30. Некоторые находки и открытия с большей тщательностью разобраны в научных статьях «Известий», издававшихся в разные годы вместе с отчетами. Тем не менее, отчеты РАИК являются ценным источником сведений об учреждении. С помощью них становится возможным проследить характер его научной и собирательской деятельности и оценить ее историческую значимость. По материалам отчетов можно понять, кто входил в состав сотрудников, какие темы поднимались на научных заседаниях, в каких регионах проводились раскопки, какими предметами пополнялось музейной собрание. В конце каждого из них также содержится подробный перечень тех лиц и учреждений, с которыми институт состоял в каких-либо деловых отношениях. Несмотря на недостаточную освещенность отдельных научных инициатив, каждый из данных источников представляет собой законченное систематическое изложение релевантных сведений.
Подводя итоги, можно отметить, что отчеты являются ценным источником, которые формируют полноценное представление о Русском археологическом институте в Константинополе, как об учреждении, которое внесло значительный вклад в изучение бывших провинций Османской империи. С первых же лет своей работы институт проявлял интерес к данному направлению. Впоследствии его поле деятельности расширяется, включая все больше древностей, в том числе, и самого Константинополя. Одновременно с этим активно пополняются библиотека и музей учреждения, причем в музейное собрание включаются памятники не только византийского периода, но также античности и мусульманского средневековья.
Институт поддерживал отношения с местным научным сообществом, о чем говорят его связи с Османским имперским музеем, а также сотрудничество с турецкими властями. Последнее позволило с их разрешения изучать крупные религиозные объекты, реконструированные в османский период. Большинство поездок и экспедиций, однако, связано с изучением гораздо менее значительных достопримечательностей, большинство которых уже тогда находились в руинированном состоянии. В силу невозможности транспортировки тех или иных фрагментов, многие из них подробно фиксировались. В данных целях сотрудниками активно использовалось фотографирование.
Русский археологический институт в Константинополе стал единственным гуманитарным учреждением Российской империи за грани-цей31. Немалую роль в его успехе играла специализация учреждения на такой сложной области как византология. Сотрудникам удалось организовать лучшую в Константинополе библиотеку для занятий дисциплиной32. К концу существования института она включала примерно двадцать пять тысяч томов.
Инициативность Ф.И. Успенского позволила учреждению организовать и систематизировать работу на межгосударственном уровне, что привело к развитию области междубалкан-ских исследований33. Отличился в своей научной деятельности в период работы в институте и Ф.И. Шмит. Исследование Кахриэ-Джами стало причиной его научной известности, что отмечалось еще его современниками34. С учреждением сотрудничали известные исследователи, такие как Б.В. Фармаковский, А.А. Васильев, Б.А. Панченко и другие.
Тем не менее, деятельность РАИК пришлась на сложный период мировой истории. Постепенно обретали полную независимость балканские государства, усиливалось соперничество крупных европейских держав. Имея прочные связи с представительством российского государства на османских территориях, РАИК редко выходил за границы собственно научной работы. Это не позволило учреждению избежать сложностей, связанных с вступлением Турции в Первую
Мировую войну, что и привело к его закрытию в 1914 г.35 Научные исследования сотрудников института продолжались и в последующие годы, но уже в рамках других учреждений.
Список литературы Деятельность Русского археологического института в Константинополе по материалам его отчетов за 1894-1910 гг
- Азизова Г.Н., Павличенко Н.А., Чернова Н.В., Швиль Л.М. Коллекция эстампажей Русского археологического института в Константинополе и одна из методик реставрации эстампажей // Античные реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории. Херсонес Таврический. Севастополь. 2017. C. 14-18. EDN: ZQQSBD
- Ананьев В.Г. Ф.И. Шмит по эпистолярным материалам из архива С.Ф. Платонова // Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Т. VII. 2019. С. 393-408.
- Басаргина Е.Ю. Архивные фонды Русского археологического института в Константинополе (РАИК) // Византийский временник. Т. 55(80). 1994. С. 33-37.
- Басаргина Е.Ю. Проекты создания русских археологических институтов за рубежом // Вестник древней истории. 2008. №4 (267). С. 205-213. EDN: JUIAEX
- Герд Л.А. Русский археологический институт в Константинополе и французские византинисты: история двух неосуществленных проектов // Византия - Христианский Восток - Россия. Проблемы истории и культуры. Т. 10. №3 (77). 2019. С. 1-13.
- Горянов Б.Т. Ф.И. Успенский и его значение в византиноведении (К столетию со дня рождения 1845-7 февраля - 1945) // Византийский временник. Том I (XXVI). 1947. C. 29-108.
- Иванов С.А. Последний Стамбульский проект русского археологического института в Константинополе // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXX. 2007. С. 412-423.
- Известия Русского археологического института в Константинополе. Т. I. Одесса,1896. 210 с.; Т. II. Одесса, 1897. 308 с.; Том IV. София. 1899. 240 с.; Том VI. София. 1900. 485 с.; Том VII. София. 1901. 250 с.; Том VIII. София. 1903. 341 с.; Том IX. София. 1904. 430 с.; Том XIII. София. 1908. 371 с.; Том XIV. София. 1909. 184 (282) с.; Том XV. София. 1911. 289 с.; Т. XVI. София, 1912. 393 с.
- Шаманаев А.В. Русский археологический институт в Константинополе и всероссийские археологические съезды // Византийский временник. Т. 102. 2018. С. 326-334. EDN: MFKLPC