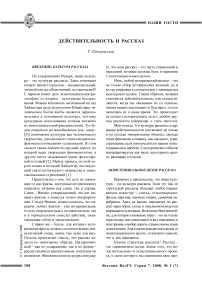Действительность и рассказ
Автор: Качераускас Томас
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Наши гости
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974183
IDR: 14974183
Текст статьи Действительность и рассказ
ВВЕДЕНИЕ: КУЛЬТУРА РАССКАЗА
По утверждению Рикера, наша культура – это культура рассказа. Здесь возникает вопрос: какой это рассказ – индивидуальный, личный или же объективный, исторический? С первым имеет дело экзистенциальная философия, со вторым – культурные исследования. Можно вспомнить негативный взгляд Хайдеггера на культурологию Шпенглера: человеческое бытие якобы является первоначальным в отношении культуры, поэтому культурные исследования должны вытекать из экзистенциальной феноменологии. Тут будем опираться на мацейновское (см., напр.: [3]) понимание культуры как человеческого творчества, дополненного экзистенциальнофеноменологическими установками. В этом смысле также пойдем по средней дороге, по которой ведет творческая феноменология, в другом месте называемая мною философской поэтикой [2]. Между прочим, по этой дороге пошел и поздний Хайдеггер, исследующий связи поэтического творчества и экзистенциальных стремлений [1].
Предпосылка о том, что есть не зависящие от нас факты, доступные историческому пересказу, уязвима как слева, так и справа. Слева – Ницше, утверждающий, что нет никаких фактов, а имеются только интерпретации. Следуя Ницше, можно показать, что передача любых фактов – уже интерпретация, то есть творческое (как в положительном, так и в отрицательном смысле) действие, охватывающее отбор и представление.
Справа же – Гегель, для которого исторические факты должны соответствовать спекулятивной схеме, иначе тем хуже для них. Отсюда происходит мысль, что рассказ ведется по некоторому образцу. Негармоничный – как по содержанию, так и по форме – рассказ является недопустимым, поскольку он непонятен. Феноменология культуры допуска- ет, что наш рассказ – это часть стремлений и ожиданий, которые должны быть в гармонии с экзистенциальным целым.
Итак, любой исторический рассказ – это не только отбор исторических явлений, но и их группировка в соответствии с имеющимся культурным целым. Таким образом, явления становятся действительными, они осуществляются, когда мы связываем их со стремлениями нашего настоящего и будущего, то есть включаем их в наше время. Это происходит не только с историческим, но и с любым другим рассказом (например, с этим текстом).
Мои тезисы: 1) в культуре рассказа содержание действительности составляют не только и не столько эмпирические объекты, сколько такие феномены сознания, как вымысел, идеи, стремления, если они находятся в нашем экзистенциальном проекте; 2) историческое событие интерпретируется как часть культурного целого, расширяя это целое.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ЦЕЛОЕ РАССКАЗА
Вернемся к предпосылке, что наша культура – это культура рассказа. Если это так, то структурой рассказа обладает любое передаваемое известие 1: статья, стихотворение, фильм, картина, научная теория, семейная перебранка. Здесь не важно, передается ли рассказ через образ, слова, в письменном виде или выражается чувствами. Вспомним Витгенштейна, для которого языковые игры – это не только игры языка; они охватывают и вид поведения, и поле зрения, и выбор дороги, одним словом, нашу экзистенцию. Аналогично рассказ неотделим от экзистенциального целого, от которого зависит, что и как передается.
Какова структура рассказа? Рассказ – это гармоничное целое. Более того, это целое неотделимо от экзистенциального проекта, в свете которого мы оцениваем свое про- шлое и принимаем решения насчет будущего. Иначе говоря, любой рассказ – как передача, так и его понимание – указывает на целое нашей культуры, которая растет вместе с жизненным (экзистенциальным) проектом. Здесь пересекаются философия культуры, герменевтика и экзистенциальная философия: культура является творчеством человека (Мацейна), а мы создаем свое экзистенциальное целое на ее фоне.
Целостность указывает на образность, которой столько внимания уделял Витгенштейн. В этом смысле любой рассказ – это и образ, указывающий на взгляд рассказчика в целом (а не только на взгляд относительно некоторого вопроса). Рикер связывает видение-как ( voir comme ) рассказа с бытием-как. Видение, бытие и рассказ неразделимы в нашем экзистенциальном целом. Рассказывая, мы передаем образ из своей экзистенциальной перспективы, охватывающей волнение относительно будущего и горечь уроков прошлого. Хотя обыкновенно видение разделяют на видение в узком (вид через телескоп) и широком (образ мира как целого) смысле, оба они – части нашей экзистенциальной гармонии, которую они, в свою очередь, стремятся расстроить во имя новой целостности. Для астронома вид через телескоп всегда возникает на фоне взглядов его научной школы (Аристарха или Птолемея, Ньютона или Эйнштейна). Имея в виду, что эмпирические факты всегда возникают как образ, зависящий от наших взглядов, для нас неприемлема наивная версия критерия адекватности – соответствие мысли и вещи 2.
В нашем феноменологическом контексте может существовать другая версия этого критерия истины (и действительности), что характеризует соответствие образа-феномена как части и экзистенциального видения как целого 3. Но реальность образа я связываю не столько с его зависимостью от видения. Если бы этим мы ограничились, если бы нас волновало только согласование образа с видением, наша мысль была бы неживой, а действия – скованные. В таком случае мы бы не имели основания говорить о культуре как о человеческом творчестве: это было бы нетворческое повторение. Поэтому внушительность (и существенность) образа я буду связывать с его новизной и способностью расстроить видение.
Итак, образность – это второй аспект рассказа, неотделимый от первого (целостность). Образность указывает не только на жизненное видение автора рассказа как монады, но и на способ понимания. Рассказ или изображение определенным способом показывают, как они должны быть поняты. Образность помогает избежать закрытости видения автора, монадичности 4. Словно выставленная напоказ картина, она всегда открыта для интерпретации, которая, в свою очередь, формируется нашим рассказом. Открытость здесь не означает наготу, которую мы замечаем в дневниках. Возникает вопрос: являются ли демонстрируемые в дневниках чувства на самом деле авторскими или, может, они принадлежат героям просмотренных сериалов? Если действительность мы связываем с новизной, инаковостью и творчеством, настоящие чувства и настроения автора должны расширить горизонт его видения. В этом смысле герой, созданный автором, начинает жить своей жизнью, расширяя образ, предлагаемый автором. Поэтому Бахтин предостерегает от слияния автора и героя, с которым связывается инаковость. Будучи Другим, герой в то же время становится действительным, поскольку допускает творческое напряжение между собой и автором, даже если это напряжение и трагично.
Нагота не оставляет никакого интерпретационного подхода, не указывает никакой дороги или способа, поэтому не допускает события понимания. Для понимания необходима инаковость образа-феномена, что возникает как неясность образа. Вспомним Витгенштейна: не есть ли неясность образа то, что нам и нужно? В этом смысле рассказ не столько освещает, сколько затемняет, заставляя нас, читателей, искать дорогу из нашего жизненного целого, превратившегося в лабиринт.
Таким образом, мы приблизились к третьему аспекту рассказа: рассказ – экзистенциальное событие, при помощи которого каждый раз согласовывается целое, расстроенное новым образом. Здесь уместно сравнить рассказ с картиной (например, Кандинского), абстрактный, на первый взгляд, образ которой ставит нас в тупик, пока он не находит отклика в нашей душе. Аристотель в «Поэтике» говорит о systasis событий, что означает не только состав, по сути гармоничный и целевой 5, но и скопление, то есть новый порядок событий, которые расстраивают старую (возможную) их последовательность. Таким образом, в сочетании нового и старого образов возникает новая экзистенциальная гармония. Это событие не только понимания (исторического) явления, но и событие воображения своей действительности.
Внутренняя – языковая – сторона рассказа также указывает на его образность и событийность. Самой большой разрушающей силой обладает такая языковая фигура, как метафора, часто не оставляющая камня на камне от старого видения. Это связано с образностью метафоры, внушительностью ее образа как целостного видения. Поэтому Рикер в «Живой метафоре» говорит об иконно-сти метафоры, или ее видении-как. Соотношение образов – настоящее событие рассказа. Последний охватывает расстраивание старого образа и создание новой целостности как воображения реальности. Это творчество в экзистенциальном смысле. Можно быть наблюдателем множества внешних событий (воюя), смены калейдоскопических внешних образов (путешествуя), но не испытывать настоящего события, когда не изменяется наше видение из-за фанатизма или страсти к коллекционированию. Событийность в рассказе проявляется не через описание событий, но через его способность расширить наше жизненное целое.
Рассказ – это сущее событие; благодаря ему мы смотрим дальше вперед и назад, то есть ставим себе новые цели и в их свете по-новому оцениваем свое прошлое. Воображение означает не столько приспособление образа-феномена к нашему жизненному целому, сколько его обогащение новой перспективой. Важно то, что новое видение открывает старое событие, на которое мы смотрим по-новому. Событийность возникает как подвижное сочетание старого и нового, что позволяет творчески конституировать образ настоящего. Хотя образы-феномены в нашем телескопе, наведенном на созвездие прошлых событий, обусловлены нашими настоящими экзистенци- альными установками, они реальны настолько, насколько могут их расширить под воздействием обогащающих ожиданий будущего. Поэтому экзистенциальное настоящее, приближаясь к смерти, является живым обменом с нашим будущим и прошлым.
Итак, событийность рассказа допускает временность. Временность, как и событийность, указывает здесь на время не внешних, но внутренних событий. Рассказ – это постоянное герменевтическое обновление жизненного мира. Перефразируя Гадамера, можно сказать: он – одноразовый. Одноразовость не является модусом настоящего, хотя и близка ему: не только потому, что первое более связано с событийностью, а второе – с временностью. Одноразовостью охарактеризуется новизна экзистенциального события, а настоящее же связываемо с имеющимся состоявшимся видением. Однако как событийность неотделима от временности, так и настоящее – от одноразовости. Последняя возможна только потому, что наша экзистенция – временная. Приближаясь к смерти, мы все шире смотрим на свое прошлое, но не потому, что прожито все больше времени, а потому, что перспектива смерти заставляет нас выдвигать себе все большие задачи. В этом смысле, приближаясь к смерти, мы расширяем свою жизненную среду. В свете новых задач, интерпретируя события своего прошлого, мы тем самым расширяем прошлое. Таким образом, пересекаются четвертый (временности) и первый (экзистенциального целого) критерии рассказа. Рассказ участвует в понимании нашего экзистенциального целого, и наоборот: рассказ понимаем с перспективы своего экзистенциального творчества. Это разновидность герменевтического круга, что очерчивает границы культуры как осуществления, воображения и овеществления.
Таким образом, мы обратились к пятому аспекту рассказа – вещественности. Овеществление здесь неотделимо от реализации, воображения и втягивания в настоящее время. Овеществляется то, что у нас под рукой (zuhandene, по словам Хайдеггера) в экзистенциальном смысле, иначе говоря, то, что мы включаем в свой экзистенциальный образ, охватывающий оценку событий прошлого и решения насчет будуще- го. Нами понимаемый рассказ овеществляет исторические события, которые участвуют в проектах будущего нашей жизни. Так овеществленные, они становятся компонентами нашей человеческой реальности, которые, в свою очередь, определяют экзистенциальный образ, формирующий наше мышление и образ действия. Овеществление событий прошлого – это и их наименование: придание имени означает их включение в гармонический ряд наших имен, что указывает на экзистенциальное целое. Таким образом, мы приблизились к языковости рассказа, хотя никогда и не были отдалены от нее. По словам Хайдеггера, мы возвращаемся туда, где уже находимся – в язык. В нашем случае, обходя круг, мы возвращаемся к истокам рассказа – к языку.
Шестая черта – языковость – возникает из природы рассказа и проникает через все пять упомянутых аспектов. Можно говорить как о повествовательном характере языка, так и о языковости рассказа. В языке можно узнать структуру рассказа: мы всегда общаемся, опираясь на некоторое целое событий, что знакомо участнику рассказа. Каждое слово в этом смысле находится в нашем культурном контексте, иначе он бы остался непонятым, хотя при помощи события языка мы стремимся этот контекст расширить. Мы говорим вспоминая и по-новому воображая.
Связи экзистенции и языка позволяют языковость рассказа анализировать с другой стороны. Опять вспомним Витгенштейна: его языковые игры охватывают как наше поведение, так и способ изображения. Образность объяснения («Traktatus logico-philosophicus») и понимания («Философские исследования») помогли ему выдвинуть концепцию игр, охватывающих наши действия и мышление. Для Га-дамера любое понимание также является языковым. К этой мысли его приводит не столько языковая структура мышления, сколько анализ языкового искусства (поэзии, трагедии) как модели герменевтики. В этом смысле можно реконструировать и аристотелевскую «Поэтику», в которой говорится о связи художественного (трагедии) высказывания и нашего чувствования (катарсис), а также поведения (изменившиеся установки).
В нашем феноменологическом контексте языковость вытекает из целостности экзистенциального рассказа. Поскольку рассказ – это передача целого образа, а воображение неотделимо от реализации, овеществления и включения в настоящее время, язык является гарантом не только со-бы-тия, но и индивидуального бытия. Последнее я связываю с экзистенциальным проектом, меняющим и публичную среду так, как часть изменяет целое. Тем самым это подвижное отношение понимания между индивидуальными экзистенциальными установками как частью и публичным пространством как целым. В этом смысле политика – публичное говорение с целью расшевелить нашу жизненную среду. Если такое говорение с нашим согласием вытекает только из стихии das Man , как чаще всего бывает, это показывает наше нежелание изменяться, то есть создавать свою среду, в которой мы бы росли сами. Нечистота политики связываема с неподвижностью политического мира. Он неподвижный не потому, что в публичном пространстве ничего не происходит: многочисленностью событий и их перманентным «употреблением» больше всего заинтересованы недобросовестные политики. Политический мир неподвижен или молчалив в экзистенциальном смысле: ни мы, ни наши политические лидеры не хотим вырваться из потока несущей нас болтовни. Говорить слушая, голосуя и действуя, как все, – значит быть немым, то есть не участвовать в нашем творческом со-действии между нами как частями и средой как целым. В этом случае мы совсем не разговорчивы, хотя непрестанно болтаем в телевизионных дебатах.
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ КУЛЬТУРЫ И ЭКЗИСТЕНЦИИ
Итак, мы имеем случай герменевтического круга, где части – наш образ или интерпретируемый случай – участвуют в постоянно изменяющемся, временном целом. Это всегда двустороннее со-действие, охватывающее автора и читателя. Поэтому герменевтический круг охватывает еще один уровень – между культурным целым и частями, которыми являемся мы все, понимания. Таким образом, снимается вопрос о том, какое – индивидуальное или общественное – мировоззрение выражает произведение искусства. Индивидуальный и общественный образы здесь расширяют друг друга во время содействия как части и целого в культурной среде. Автор и читатель здесь учавствуют на равных правах: один без поддержки другого не может развивать рассказ. Интерпретация здесь – также творчество. Она постоянно расширяет экзистенциальный проект читателя. Таким образом, вместе с окружающей средой мы создаем себя. Это живое со-действие между нашей экзистенцией и культурной средой – как научной, так и творческой средой искусства.
Интерпретация помогает осуществить феномены прошлого. Интерпретируя рассказанное прошлое, мы создаем героев, которые, в свою очередь, указывают на наше будущее. Таким образом, мы все по-новому создаем свое экзистенциальное (экстатное) целое. Окончательное застывшее целое означает символическую смерть (Бодрийяр). В этом смысле на телевизионных экранах каждый день мы наблюдаем болтовню политических трупов. Их смерть символична не потому, что у них нет возможностей подниматься по политической лестнице. Самые большие политические трупы как раз обладают самыми большими возможностями делать карьеру. Смерть – символична, так как она – ненастоящая, то есть не включена в нашу действительность и не наименована.
Интерпретация помогает расширить жизненное целое автора, даже если автор уже мертв. Таким образом, мы – интерпретаторы – оживляем автора, умерщвляя его, иначе говоря, оценивая его жизнь как целое. Но новым поколениям надо умертвить автора рассказа заново, перед этим дав ему жизнь, то есть сделав его рассказ событием для себя. Гибель автора, интерпретируя целое его произведений, делает его трагическим героем в наших глазах. Вспомним Кьеркегора, указавшего на трагизм героя, который мучается и боится. Рассказ как содействие автора и героя позволяет интерпретировать культуру как творческую сме- ну ролей автора и героя: автор, погибнув во время нашего понимания, становится героем, которого мы растим в нашем экзистенциальном рассказе, в нашей (теперь мы – авторы) жизни. Культура – это постоянное творчество экзистенциального рассказа, авторы которого становятся героями, расширяющими за счет своего трагизма образы других авторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ
В контексте экзистенциального рассказа осталось ответить на вопрос, связанный с реальностью событий. Настоящие события суть живые, то есть участвующие в герменевтическом со-действии культуры как целого и нашей экзистенции как части. Здесь неважно, сколько времени прошло после него: две тысячи лет или один год. Если вера нам помогает проектировать целое нашей жизни, то событие смерти и воскресения Христа – одноразовое, иначе говоря, настоящее ( gegenwärtig ), по словам Гадамера. Это событие мы включаем в наш экзистенциальный рассказ, который, в свою очередь, все расширяется. Итак, мы творим культуру, придавая ей действительность (осуществляя), тем самым включая событие в наше время, воображая, именуя и овеществляя его. Герой этого события, в свою очередь, расширяет наш экзистенциальный образ. Это наш рассказ, интерпретируемый другими участниками культуры. Таким образом, мы становимся авторами и героями своей культуры как рассказа. Под воздействием напряжения автора и героя развивается культурная герменевтика и феноменология.
Список литературы Действительность и рассказ
- Heidegger, M. Unterwegs zur Sprache/М. Heidegger. Stuttgart: Verlag Günther Neske, 1997. 270 s.
- Kaìerauskas, T. Filosofinės poetikos paradigma/Т. Kaìerauskas//Problemos. 2004. № 65. P. 183-195.
- Maceina, A. Kultßros filosofijos įvadas/А. Maceina//Raðtai: in 13 vol. Vol. I. Vilnius: Mintis, 1991. 541 s.