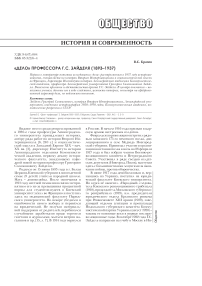«Дело» профессора Г.С. Зайделя (1893-1937)
Автор: Брачев Виктор Степанович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 2 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Первая в литературе попытка исследования «дела» расстрелянного в 1937 году историка-новиста, специалиста по истории Второго Интернационала и социалистической мысли во Франции, директора Института истории Ленинградского отделения Коммунистической академии, профессора Ленинградского университета Григория Соломоновича Зайделя. Выяснены причины и обстоятельства ареста Г.С. Зайделя. В центре внимания - показания ученого, данные им в ходе следствия, ценность которых, несмотря на сфабрикованный характер дела, не подлежит сомнению.
Зайдель григорий соломонович, история второго интернационала, ленинградский университет, советская историография 1920-1930 годов, коммунистическая академия, политические репрессии в ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/140257540
IDR: 140257540 | УДК: 94(47).084
Текст научной статьи «Дело» профессора Г.С. Зайделя (1893-1937)
Брачев В.С. «Дело» профессора Г.С. Зайделя (1893–1937) // Общество. Среда. Развитие. – 2021, ¹ 2. – С. 3–9.
Видное место среди репрессированной в 1930-е годы профессуры Ленинградского университета принадлежит историку, автору ряда работ по истории Второго Интернационала [6, 240 c.] и социалистической мысли в Западной Европе XIX – нач. XX вв. [3], директору Института истории Ленинградского отделения Коммунистической академии, первому декану исторического факультета, заведующему кафедрой новой истории профессору Григорию Соломоновичу Зайделю.
Родился он 15 июня 1893 года в г. Белая Церковь Киевской губернии в многодетной семье (9 детей) учителя народной школы. Мать – домохозяйка. После окончания в 1913 году местной гимназии в связи с непринятием его из-за превышения процентной нормы для студентов-иудеев в Киевский университет уехал во Францию и поступил здесь на медицинский факультет Парижского университета. Но вскоре убедился в ошибочности своего выбора и перевёлся на юридический. Не получая материальной поддержки от родителей, перебивался случайными заработками вроде торговли газетами и журналами, мытьем витрин магазинов и пр. [15, л. 7]. В 1914 году вернулся в Россию. В начале 1916 года призван в царскую армию нестроевым солдатом.
Февральскую революцию встретил рядовым запасного 175-го пехотного полка, дислоцированного в селе Медведь Новгородской губернии. Принимал участие в организации восстания полка в ночь на 28 февраля 1917 года и был избран членом Военно-революционного комитета и Петроградского Совета. Участвовал в ряде съездов солдатских депутатов (Новгород, Псков), выступая здесь с большевистскими лозунгами за окончание войны, против оборончества.
В июне 1917 года демобилизован и, вернувшись на Украину, поступил на юридический факультет Киевского университета. Но курса не окончил. «Народный» следователь Киевского революционного трибунала (1918), председатель Московского губернского ревтрибунала (1919), и.о. председателя юридического отдела Крымского ревкома при Реввоенсовете XIII армии (1920), заведующий отделом агитации и пропаганды Подольского губернского комитета Коммунистической партии Украины (август 1920) – таковы ее основные вехи в первые послереволюционные годы. В октябре 1922 года Г.С. Зайдель направлен на учебу в Москву в Ин-
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2021
ститут Красной профессуры со специализацией по истории Запада.
В 1923 году проголосовал на партийном собрании в Институте Красной профессуры за т.н. «буферную резолюцию» оппозиционера К.Б. Радека, за что, собственно, с формулировкой «как балласт», был исключен во время чистки партии в июне 1924 года из её рядов, но восстановлен благодаря вмешательству Центральной контрольной комиссии ЦК РКП(б).
После окончания Института Красной профессуры в октябре 1925 года получил научную командировку для работы в архивах и библиотеках Германии и Франции. Возвратившись летом 1926 года в Москву, был направлен в августе этого же года ЦК РКП (б) в Ленинград, где уже в сентябре 1926 года назначен профессором Коммунистического сельскохозяйственного университета (сентябрь 1926 – ноябрь 1929), Военно-политической академии им. Толмачева (1926–1930) и Ленинградского университета (1928), а так же сотрудником научноисследовательского института марксизма при Ленинградском отделении Коммунистической академии (1926) [14, л. 2 об., 3].
Здесь, в Ленинграде, 7 июня 1927 года во время взрыва бомбы в Центральном партийном клубе Г.С. Зайдель был серьёзно ранен и едва не погиб [4, с. 4]. Вершиной же карьеры ученого стало назначение его 18 ноября 1929 года директором Института истории, членом президиума (с 13 ноября) и заместителем председателя Ленинградского отделения Коммунистической академии [8, c.128].
Высокое положение в иерархии ленинградских историков ко многому обязывало. С этим, видимо, и была связана повышенная активность Г.С. Зайделя в кампании по разоблачению классовых врагов на историческом фронте из числа уже к этому времени арестованных историков «старой школы» («дело академика С.Ф. Платонова 1929–1931 гг.»). Речь идет о его докладе [5] на объединенном заседании Института истории при ЛОКА и Ленинградского общества историков-марксистов 29 января 1931 года «Тарле и его школа», напечатанном в этом же году вместе с докладом М.М. Цвибака «Платонов и его школа» под общим названием «Классовый враг на историческом фронте» в виде брошюры. «Тар-ле, – читаем мы в предисловии к ней, – прямой агент антантовского империализма, находился в теснейшем союзе с германофилом – монархистом Платоновым. Вместе с такими людьми, как Любавский, Лихачев и др., они составляли центр контрреволюционного вредительства» [5, с. 6].
В мае 1934 года назначен деканом только что образованного по решению партии и правительства исторического факультета Ленинградского университета [9, с. 1]. Конечно же, учитывая перегруженность Г.С. Зайделя научной и административной работой, можно не сомневаться, что основная, «черновая» часть её по истфаку ЛГУ, легла на плечи его помощника П.А. Васильева и заместителя декана Я.И. Богомольного. Но принципиальные вопросы решал все-таки он. Особое внимание в связи с этим заслуживает то обстоятельство, что наряду с «товарищами» по Комакадемии (Н.Н. Розенталь, М.С. Годес, И.С. Фендель, С.Г. Томсин-ский, А.И. Малышев, В.П. Викторов, И.М. Троцкий и др.) в числе приглашенных в качестве преподавателей нового факультета оказался целый ряд третируемых ранее историками-марксистами, в том числе и самим Г.С. Зайделем, представителей «старой профессуры» (В.Н. Бенешевич, Е.В. Тарле, Б.Д. Греков, И.М. Гревс, С.А. Жебелёв, О.А. Добиаш-Рождественская, В.В. Струве). Но было ли это связано с личной инициативой Г.С. или всё дело в линии партии, которой вынужден был держаться в новых условиях новоиспеченный декан, ясности нет. Как бы то ни было, но держался он уверенно.
Беда, как правило, приходит тогда, когда её не ждут. 1 декабря 1934 года был убит руководитель ленинградских коммунистов, член Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б) С.М. Киров, причем уже в первые часы после случившегося ответственность за это власть сразу же возложила на т.н. оппозицию [12, с. 1]. Уже 16 декабря 1934 года наиболее видные представители ее во главе с бывшими членами Политбюро ЦК ВКП(б) Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым были арестованы в Москве по обвинению в принадлежности к некоему, якобы стоявшему за этим убийством, «Московскому центру» [10]. «Никакой пощады остаткам контрреволюционной зиновьевской оппозиции, гнев и презрение к подлым убийцам т. Кирова и их вдохновителям. Проклятие предателям! Проклятие убийцам!» – неиствовала в связи с этим советская пресса [7, с. 2].
Тем временем, 21 декабря 1934 года в Ленинграде на закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством В.В. Ульриха, начались слушания по делу только что выявленного ленинградскими чекистами стоявшего за убийством С.М. Кирова «Ленинградского центра» [11] из числа бывших зиновьевцев. Поскольку было известно, что в свое время (1923–1925 гг.) Г.С. Зайдель принадлежал к числу сторонников политической линии арестованных, это сразу же поставило его как одного из руководителей ленинградского отделения Коммунистической академии и директора её института истории в весьма уязвимое положение.
Показательно в этом плане выступление Г.С. Зайделя на объединенном собрании партийных организаций ЛОКА, ИКП, ГАИМКа и Института истории партии 23 декабря 1934 года с весьма примечательной повесткой дня: доклад тов. Касымова «О зи-новьевской контрреволюционной группе». «Факты, – заявил он в прениях по докладу, – которые нам стали известны и всё поведение этих негодяев, которые внутри нашей партии ковали пули против вождей, заставляют каждого спросить: какая доля ответственности за случившееся ложится на нас?
Мы все несем ответственность, скрыться за всеобщей ответственностью никому не удастся. Самую большую ответственность несут люди, которые в той или иной степени были в оппозиции. Партия имеет право нам не верить, взять нас под священное подозрение. Я, к несчастью, колебался в 23 году. Особенно трудно на теоретическом участке. Это святая святых партии. В Комакадемии, за деятельность которой, особенно исторического института, я несу ответственность, бои на теоретическом фронте дали нам возможность многое выявить. Это была наша обязанность, но эту работу мы проделали не до конца <...>.
Мы не все сделали, что бы выкорчевать из нашей среды людей, которым нельзя доверять. Довольно интеллигентских штучек. В частности, в институте истории, который продолжает занимать ведущее место на историческом фронте не все благополучно. Когда мы дрались во время письма тов. Сталина в редакцию «Пролетарской революции», мы не додрались. В этом и заключается остаток небольшевистского, который у нас есть. А за последнее время, вследствие огромных побед я не верил, что Зиновьев может так врать. Трудно говорить на эту тему. Партия нервничает, поэтому нечего считаться с тонкими нервами Зайделя. Если у кого-либо были ошибки, то священное право партии нас подозревать. Если меня завтра пошлют на низовую работу, я буду считать, что это правильно» [1, л. 272].
Несмотря на ряд критических замечаний в адрес Г.С. Зайделя, высказанных в ходе прений, в конечном итоге все обошлось более или менее благополучно – строгим выговором с предупреждением за «притупление партийной бдительности и либерализм» в руководстве институтом [1, л. 274]. Но сохранить свою должность Г.С. Зайделю все же не удалось. В дело вмешались, как это принято было тогда говорить, высшие партийные инстанции, и 10 января 1935 года он был снят всё-таки с должности директора Института истории ЛОКА как не обеспечивший «большевистское руководство институтом», с сохранением за ним должности рядового научного сотрудника. Преемником Г.С. Зайделя был назначен С.С. Бантке (арестован 22 ноября 1937 г., 4 февраля 1938 г. расстрелян). 15января 1935 года последовало увольнение Г.С. Зайделя и из ЛГУ. Всего за чуть более 2 месяца с 01.12.1934 по 12.02.1935 гг. по обвинению в принадлежности к троцкистско-зиновьев-ской оппозиции только здесь было уволено и арестовано 33 человека. Общее же количество арестованных в Ленинграде оппозиционеров составило к середине февраля 1935 года 843 человека [13, л.1, 6].
Что касается Г.С. Зайделя, то вопрос о его партийности решался не в университете, а по основному месту его работы – Коммунистической Академии. 16 января 1935 года парторганизацией ЛОКА он был все таки исключен из рядов ВКП(б). 21 января это решение было утверждено Смольнинским райкомом партии. Не увенчалось успехом и рассмотрение апелляции Г.С. Зайделя 3 февраля 1935 года в областной комиссии партийного контроля.
Последней надеждой Г.С. после отклонения апелляции стало его полное отчаяния письмо на имя секретаря Ленинградского обкома партии Ф.Я. Угарова. «Парт-тройка областной комиссии партийного контроля, – пишет он здесь, – утвердила постановление Смольнинского райкома партии об исключении меня из рядов ВКП (б). Прошу секретариат Ленинградского областного комитета ВКП (б) обратить внимание на следующее обстоятельство. Я глубоко осознаю весь вред, причиненный мною партии. Я редактировал и дал предисловие к книге контрреволюционера, ныне осужденного в концлагерь, Богомольного «Жорес и жоресизм». Я не разглядел его двурушнических методов, прикрытых верностью линии партии и пышными декларациями, своих троцкист-ско-зиновьевских установок. Я оказался в данном случае гнилым либералом. Я за это должен нести суровую ответственность.
Я несу так же ответственность за то, что ряды ленинградского отделения Комака-демии засорены бывшими оппозиционерами и выходцами из других партий. Все это усугубляется ещё тем, что я в 1923 году колебался в сторону троцкизма и голосовал накануне 8-й партийной конференции в Институте красной профессуры, где я тогда учился, за оппозиционную резолюцию Радека» <...> [1, л. 276].
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2021
Сознавая весь вред, причиненный мною партии своим либерализмом, особенно в деле с книгой Богомольного, я прошу учесть вышесказанное и дать мне возможность исправить свои ошибки в рядах партии на любой работе. С великой партией Ленина-Сталина, с советской властью, с пролетарской революцией я связан кровью. Мой старший брат – рабочий, расстрелян белыми, отец – народный учитель, при белых сидел в тюрьме. Во время его сидения три мои сестры умерли от голодного тифа. Младший брат при гетманщине сидел в тюрьме и был приговорен к концлагерю. Во время гетманщины я скрывался под чужим паспортом от преследований. В 1927 году я был ранен в партклубе в Ленинграде белогвардейской бомбой. Полтора года я ходил на костылях, мои раны зажили, но ноги мои до сих пор плохо действуют. Я потерял почти все свои зубы в результате взрыва. Все наличные члены семьи – члены партии. Умоляю, учесть все эти обстоятельства. Жить вне партии для меня это пытка и ужас. Я заслужил суровое наказание, но оставьте меня в рядах партии» [1, л. 272].
Увы, услышаны его слова мольбы товарищами по партии не были. Не та это была, как оказалось, партия и не те товарищи. 11 февраля 1935 года Г.С. Зайдель был уволен из Комакадемии «как не соответствующий условиям работы ЛОКА», а уже 15 февраля его арестовали по стандартному обвинению в преступлениях, предусмотренных ст.58 п.1 УК РСФСР (контрреволюционная деятельность) [1, л. 82].
К счастью для Г.С. Зайделя, он оказался среди тех, в отношении которых власть еще не вполне определилась, что ей с ними делать. Должных оснований для заключения их в концлагерь, а тем более расстрела, у неё не было. Доказательный материал, пусть даже и в виде самооговора, обличающий их в контрреволюционной и террористической деятельности ещё только предстояло собрать. А пока решено было ограничиться высылкой наиболее активных из них из Ленинграда. 22 мая 1935 года Г.С. Зайдель был освобожден из-под стражи. Новым местом его пребывания был определен город Саратов, а местом работы – Саратовский педагогический институт (профессор кафедры Новой истории), куда он и убыл 20 июня 1935 года с женой Гитой Леонтьевной Фридгут и сыном Левой 12 лет. В Саратове Г.С. прожил (ул. Ленина, д.134, кв.1) почти год, и у него вполне могло сложиться впечатление о более или менее благополучном исходе его дела. Ожидания эти не оправдались. 5 мая 1936 года по запросу Ленинградско- го управления НКВД от 4.05.1936 г. как «активный член троцкистско-зиновьев-ской организации» Г.С. Зайдель вновь был арестован. На этот раз уже управлением НКВД по Саратовскому краю. При обыске у него были изъяты: дневник, личная переписка и три записные книжки [1, л. 3, 4].
Первый допрос ученого состоялся 7 мая 1935 года. «Следствие предлагает Вам, – заявил ему зам. начальника УН-КВД по Саратовскому краю комиссар ГБ III ранга Сосновский (Игнатий Добржин-ский), – дать показания о Вашей контрреволюционной деятельности.
– Троцкистом я не являюсь и контрреволюционной троцкистской деятельности не вел, – отвечал на это Г.С. Зайдель. – Признаю, что в прошлом я допускал троцкистские выступления и в разное время имел встречи с активными троцкистами. Однако, я неоднократно выступал против троцкистов на собраниях и в печати».
Как видим, держался Г.С. Зайдель в ходе этого этого допроса хорошо. Но хватило его ненадолго. И уже на следующем допросе 10 мая он неожиданно заявил: «Признаю, что названные мною лица – Томсинский С.Г., Фендель И.С., Райский Л.Г., Лотте Соня и я, Зайдель, а также ряд других лиц, о которых я покажу ниже, представляли из себя до последнего времени нелегальную контрреволюционную группу, которая подпольными методами вела контрреволюционную троцкистскую деятельность» [1, л. 32].
В ходе следующих допросов 15 и 16 мая 1936 года следствие постаралось закрепить достигнутый успех в работе с подследственным, причем особый интерес у него вызывали связи руководства троцкистско-зи-новьевской контрреволюционной группы в Ленинграде с «троцкистским подпольем в Москве». Однако дальнейшего развития наметившееся «сотрудничество» Г.С. Зайделя с саратовскими чекистами не получило, т.к. уже 26 мая 1936 года, в соответствии с приказом по МВД он был этапирован в отдельной камере в вагоне со спецканвоем в Ленинград в распоряжение УНКВД по Ленинградской области [1, л. 6].
Первый допрос ученого по прибытии в «северную столицу» состоялся 5 июня 1936 года. «На допросах в Саратове, – заявил ему следователь, – Вы показали, что являетесь участником контрреволюционной троцкистской группы. Назовите участников этой группы.
О. В контрреволюционную троцкистскую группу, участником которой я являюсь, входят: Томсинский, Малышев, Горловский, Фендель, Райский.
-
В. Кто еще входил в контрреволюционную группу?
О. Больше никто не входил.
-
В. Какие задачи ставила перед собой группа, участником которой вы являлись?
О. Сформулированных задач у нас не было. Практически же, деятельность контрреволюционной группы сводилась к следующему – мы пропагандировали контрреволюционные троцкистские взгляды по вопросам науки и культуры. <...> [1, л. 64].
-
В. Участник Вашей контрреволюционной организации Томсинский говорил с Вами о террористических методах борьбы с партийным руководством?
О. Нет, не говорил.
-
В. Но Вам известны террористические настроения Томсинского?
О. Нет, террористических настроений у Томсинского не было» [1, л. 64].
В отличие от формального признания (фактически самооговора, буквально вырванного у него) в ходе многочасовых изнурительных допросов о принадлежности как своей, так и ряда других лиц, к троцкист-ско-зиновьевской организации, свидетельства Г.С. Зайделя о их конкретных критических высказываниях и оценках как личности самого И.В. Сталина, так и проводимого им политического курса, заслуживают куда большего доверия. И дело тут не только в том, что придумать такое едва ли возможно, даже под давлением следствия. Надо понимать, что кто бы и что бы нам сегодня ни говорил, критическое отношение к власти – норма для мыслящего человека. Именно к этой категории людей и принадлежали в массе своей, несмотря на свою партийность, Г.С. Зайдель и его товарищи по несчастью, в этом, собственно, и была их беда.
«После письма т. Сталина в журнал “Пролетарская революция”, – показывал Г.С. Зайдель (05.06.1936 г.), – Томсинский лично мне говорил, что в письме этом изложена карикатура на большевизм и что он не намерен выступать против ошибок в своих работах, т.к. не желает, как сказал Томсинский, делать то, что захочет “левая нога Сталина”».
-
В. Что еще говорил Вам Томсинский по этому поводу?
О. Враждебное настроение против партийного руководства Томсинский выражал и в 1932 году, в связи с продовольственными затруднениями. Он говорил тогда, что затруднения не являются следствием кулацкого саботажа, а вызваны неправильной политикой ЦК ВКП (б). Помню, что один из таких разговоров происходил на квартире Томсинского, в присутствии меня, Малышева и Шахназарова. Вра- ждебные настроения Томсинский сохранял до последнего времени. В 1935 году, когда партия после убийства Кирова очищала свои ряды от двурушников – троцкистов и зиновьевцев, он со злобой говорил мне, что Сталин сознательно убивает партийную интеллигенцию.
-
В. Разве только один Томсинский из участников Вашей контрреволюционной группы имел такие взгляды?
О. Нет. Такие злобные взгляды были и у Малышева» [1, л. 66].
Несмотря на демонстрируемую готовность к сотрудничеству, самого главного – показаний о террористическом характере «контрреволюционной группы», чего, собственно, и требовало от него следствие, Г.С. Зайдель давать всё же не хотел, хорошо понимая, чем это ему грозит. Но сделать ему это всё же пришлось. Мы, правда не знаем насколько жестокими были истязания, которым подвергался Г.С. Зайдель в ходе допроса 5 июня 1936 года со стороны работавших с ним чекистов: начальником 4 отд. майором госбезопасности Коркиным и следователями Карповичем и Лупекиным, но то, что это «имело место быть» – несомненно. Для того времени это была обычная практика следственной части НКВД в отношении «врагов народа» [2, с. 154].
Противостоять в одиночку системе – дело неблагодарное, и не каждый на это способен. Г.С. Зайдель принадлежал именно к такому роду людей, и какого-либо другого выбора, кроме как покориться судьбе, у него по слабости характера, скорее всего, и не было.
– Я признаю, – вынужден был заявить он, – что до сих пор не давал правдивых показаний.
– Что именно Вы пытались скрыть от следствия? – поинтересовался следователь. И получил ответ:
– Я пытался скрыть, что являлся участником контрреволюционной троцкистской организации в Ленинграде и одним из её руководителей и, что организация в борьбе с руководством ВКП (б) признавала единственно возможным средством – индивидуальный террор [1, л. 62].
Впервые директиву о необходимости применения индивидуального террора против руководителей партии и государства Г.С. Зайдель получил, по его словам, от Тер-Ваганяна, которого он знал по Москве ещё с 1924 года [1, л. 64]. Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян (1893–1936) был трижды исключавшийся из партии известный троцкист, проходивший в Москве по сфабрикованному чекистами делу так называемого Антисоветского объединенного
Общество
Общество. Среда. Развитие № 2’2021
троцкистско-зиновьевского центра и через каких-то 2 месяца наряду с Л.Б. Каменевым, Г.Е. Евдокимовым, Г.Е. Зиновьевым и др. оппозиционерами (всего 16 человек), предстанет перед судом (1 московский процесс 19–24 августа 1936 года) и будет приговорен к расстрелу. Делиться со следствием о содержании своих приватных разговорах с ним не стал бы, наверное, из чувства самосохранения даже сумасшедший. Но у Г.С. Зайделя к этому времени оно уже, по-видимому, отсутствовало.
Последующие многочасовые изнурительные допросы, 9,13 и 15 июня; 8,11 и 19 июля 1936 года, а также очные ставки с другими подследственными обернулись настоящей трагедией для Г.С. Зайделя. Превратившись, по слабости характера, в послушное орудие следствия он вынужден был не только подтвердить свою принадлежность (наряду с А.И. Малышевым и Н.А. Каревым) к руководящей группе Объединенного троцкистко-зиновьевского центра, созданного в 1932 году в Ленинграде оппозиционерами, но и непосредственное руководство одной из террористических групп, занимавшихся в соответствии с полученной от Всесоюзного троцкистско-зиновьевско-го центра в Москве, подготовкой убийства С.М. Кирова, а после 1 декабря 1934 года – А.А. Жданова, оговорив при этом большое количество ни в чём не повинных людей.
Назовите всех известных Вам участников троцкистско-зиновьевской организации в Ленинграде, – требовали от него следователи. «В состав организации, – отвечал на это Г.С. Зайдель (допрос 9 июня 1936 г.), – входили: Карев, Яковлев, Том-синский, я – Зайдель, Малышев, Троцкий, Райский, Фендель, Пригожин, Горловский, Печерский, Бусыгин, Меламед, Годес, Ура-новский, Седых, Цвибак, Шеин, Васильев С., Васильев А., Нотман, Ширвиндт, Лотте, Зайчик, Рубановский, Ульянов, Шах-Назаров, Чернов, Некрасова, Гайдерова, Паль-вадре, Маторин, сестры Войтоловские, Кокин, Папаян, Дмитриев, Мазель Яков» [1, л. 111]. Итого – 38 человек, причем в деле напротив многих из них имеются начальственные пометы на предмет проверки и получения санкции на арест [1, л. 196].
Всего по делу Объединенного троцки-стско-зиновьевского центра в Ленинграде под №20362–36 (ныне дело № П-26810 в 20-ти томах) было арестовано на 11 августа 1936 года 58 человек [1, л. 13а–13б]. И это ещё не все, т.к. аресты по нему проводились и после 11 августа 1936 года.
-
3 сентября следственные дела Г.С. Зайделя и ещё 11 человек – Малышева А.И., Томсинского С.Г., Печерского Н.Ф., Бели-
на Л.А., Ванага Н.Н., Лидак О.А., Горловского С.С., Орлова М.Е., Лозинского З.Б., Дмитриева Е.А. и Меламед И.М. – были выделены из дела Объединенного троц-кистко-зиновьевского центра за № 20 362 в отдельное производство за № 21 841–36 [1, л. 13е] и уже в октябре–декабре 1936 года почти все, проходившие по нему, за исключением Г.С. Зайделя, были осуждены.
Наша версия особого положения Г.С. Зайделя среди других подследственных состоит в том, что возведя его в ранг одного из руководителей троцкистско-зиновьев-ского центра в Ленинграде, следствие тем самым постулировало и особую значимость данных им в этой связи признательных показаний. Учитывалось, естественно, и то высокое положение, которое занимал Г.С. Зайдель до своего падения и ареста, как директор Института истории Комакадемии и декан истфака ЛГУ. Иначе говоря, заминка с осуждением Г.С. Зайделя могла быть связана не только с особой ценностью в глазах следствия данных им показаний, но и с возможностью использования его, как авторитетного свидетеля, в будущем, при фабрикации других дел такого же характера.
В результате, на рассмотрение выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в порядке статей 58–8 и 58–11 дело Г.С. Зайделя поступило довольно поздно – только в начале мая 1937 года, хотя следственные действия по нему были фактически прекращены еще в конце августа прошлого года.
Управлением Народного комиссариата внутренних дел Ленинградской области, читаем мы в Обвинительном заключении по этому делу (утверждено 9 мая 1937 г. начальником УНКВД ЛО комиссаром 1-го ранга Заковским и помощником прокурора СССР Пруссом), был ликвидирован ряд троцкист-ско-зиновьевских групп, подготавливавших теракты против руководителей ВКП (б) и советского правительства. В ходе проведенного расследования была установлена связь этих групп со Всесоюзным центром объединенного троцкистско-зиновьевского блока, по директиве которого в 1932 году они были объединены на основе взаимного признания террора, как единственного средства борьбы с руководством ВКП (б) в единую организацию – Объединенный троцкистско-зиновьевский центр.
Что касается непосредственно Г.С. Зайделя, то в вину ему было поставлено следующее:
-
1) Являлся «одним из руководителей троцкистско-зиновьевской террористической организации, совершившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство тов.
С.М. Кирова и подготавливавшей при помощи агентов фашистско-германской тайной полиции (гестапо) теракты в отношении других руководителей ВКП (б) и советской власти <...>.
-
2) Был непосредственно связан с террористами Тер-Ваганяном и Фридляндом, от которых получил директиву троцкистско-зиновьевского центра об организации убийства тов.С.М. Кирова. а затем тов. Жданова.
-
3) Во исполнение директивы троцкист-ско-зиновьевского центра: а) создал и возглавлял боевую террористическую группу в составе Томсинского, Малышева, Печерского и других, подготовлявшую убийство тов. Кирова; б) связался с террористической группой Седых-Кошелева, которым передал директиву центра об организации покушения на тов. Жданова.
-
4) Как руководитель троцкистско-зино-вьевской террористической организации в Ленинграде был в курсе подготавливавшегося в Москве террористического акта над тов. Сталиным <...>. Виновным себя признал полностью» [1, л. 280–281].
Кроме того, говорилось в этом документе, Г.С. Зайдель изобличается показаниями обвиняемых Малышева, Фенделя, Ура-новского, Карева, Бусыгина, Печерского, Пальвадре, Тымянского, Ванага, Пригожина, Кошелева, Меламед, Рубинштейна, Быковского, Райского, Илюкович-Стро-ковского, а так же очными ставками с обвиняемыми: Каревым, Яковлевым, Фенделем, Томсинским и др. [1, л. 280–281].
9 мая 1937 года с участием помощника прокурора Союза СССР Прусса состоялось подготовительное заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством корвоеню-риста И.О. Матулевича (Матулявичус И.О., 1898–1961), которая определила: с обвинением согласиться, а само дело в порядке постановления ЦИК Союза СССР от 1 декабря 1934 года рассмотреть 11 мая 1937 года в закрытом судебном заседании и без участия защиты [1, л. 233–234].
Открылось оно поздно вечером в 19 часов 55 минут. Характерно, что на дежурный вопрос председательствующего признает ли он свою вину, Г.С. Зайдель ответил, что признает и в своем последнем слове просил о снисхождении к нему и о желании искупить свою вину перед партией и государством. После оглашения вердикта суда – высшая мера уголовного наказания – расстрел, с конфискацией всего личного, ему Г.С. Зайделю, принадлежащего имущества, заседание суда было закрыто. Продолжался этот фарс ровно 20 минут. В этот же день приговор был приведен в исполнение [1, л. 240]. Так неожиданно трагически оборвалась жизнь ученого, внесшего заметный вклад не только в становление советской исторической науки конца 1920-х – первой половины 1930х годов, но и в налаживание учебной и научной работы исторического факультета Ленинградского университета первых месяцев его существования.
Список литературы «Дело» профессора Г.С. Зайделя (1893-1937)
- Архив УФСБ РФ по Санкт Петербургу и Ленинградской области. - Д. № П-26810 в 20-и томах. Т. 1 (Зайдель Г.С. и др.).
- Брачев В.С. «Дело» профессора С.В. Вознесенского (1884-1940) // Новейшая история России. Т. 9. -2019, вып. 1.
- Брачев В.С. Историк-партиец Григорий Соломонович Зайдель (1893-1937) // Общество. Среда. Развитие. - 2020, № 3. - С. 8-12.
- Взрыв в Центральном партийном клубе // Ленинградская правда. - 1927, 9 июня. Зайдель Г. и Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте // Доклады Г. Зайделя и М. Цвибака о Тарле и Платонове и их школах и прения на объединенном заседании Института истории при ЛОКА и Ленинградского отделения Общества историков-марксистов. - Москва-Ленинград, Государственное социально-экономическое издательство, 1931. - С. 7-65.
- Зайдель Г.С. Очерки по истории II Интернационала (1889-1914). - Л.: Прибой, 1930. - 240 с. Комсомольская правда. - 23.12.1934 г.
- Купайгородская А.П. Институт истории ЛО Коммунистической академии (1929-1936 гг.) // Отечественная история и историческая мысль в России Х1Х-ХХ вв. Сборник статей к 75-летию А.Н. Цаму-тали. - СПб., 2006.
- Новый факультет ЛГУ // Газета «Ленинградский университет». - 1934, 19 мая, № 22 (193).
- О деле так называемого «Московского центра». Справка ЦК КПК и ИМЛ при ЦК КПСС // Известия ЦК КПСС. - 1989, № 7 (294). - С. 64-85.
- Петухов Н., Хомчик В. Дело о «Ленинградском центре» // Вестник Верховного суда СССР. - М.: Юридическая литература, 1991. - С. 20-23.
- Правительственное сообщение // Правда. - 02.12.1934 г.
- Центральный Государственный Архив историко- политических документов Санкт-Петербурга (ЦГА ИПД СПб). - Фонд 984, опись 5, дело 15.
- ЦГА ИПД СПб. - Ф. 1728, оп. 1, д. № 421809/2.
- ЦГА ИПД.СПб. - Ф. 1728, оп. 1, д. № 42130913.