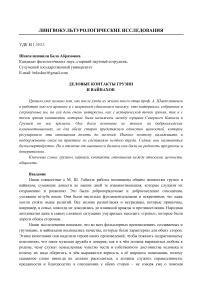Деловые контакты грузин и вайнахов
Автор: Шавхелишвили Бела Абрамовна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Лингвокультурологические исследования
Статья в выпуске: 4-1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Прошло уже немало лет, как после ухода из жизни моего отца проф. А. Шавхелишвили я работаю над его архивом и с искренним удивлением нахожу, что материалы, собранные и сохранённые им, по сей день очень интересны, как с исторической точки зрения, так и с точки зрения контактов, которые были налажены между горцами Северного Кавказа и Грузией во все времена. Они были основаны не только на добрососедских взаимоотношениях, но для обеих сторон представляли единство ценностей, которое регулировало эти отношения вплоть до мелочей. Именно поэтому налаживать и поддерживать связи на практике не составляло особого труда. Сейчас они называются бизнеспартнёрство. Но в отличие от нынешнего бизнеса они были на редкость прозрачны и доверительны.
Грузины, вайнахи, контакты, отношения между этносами, ценности, общность
Короткий адрес: https://sciup.org/147227736
IDR: 147227736 | УДК: 811.353.1
Текст научной статьи Деловые контакты грузин и вайнахов
Наши совместные с М. Ш. Табидзе работы посвящены общим ценностям грузин и вайнахов, сумевших донести до наших дней те взаимоотношения, которые служили их сохранению и развитию. Это были добропорядочные и добрососедские отношения, уходящие вглубь веков. Они были настолько фундаментальными и искренними, что даже могли стоять выше религий. Все мелкие разногласия и неурядицы, которые привычны, например, в семье, никогда не доводились до взаимной вражды и противостояния. Народная дипломатия даже в самых сложных ситуациях умудрялась находить «тропы», которые были дóроги обеим сторонам.
Наши исследования показали, что во всех фольклорных произведениях, создаваемых и грузинами, и вайнахами воспевались качества, которые были характерны для обеих сторон. Этими качествами они наделяли героев своих произведений, чтобы показать подрастающему поколению, что такое мужская дружба и доверие, как и в чём должна выражаться любовь к родине, чему служат осмысленные чувство чести и собственного достоинства человека и почему их надо оберегать, в чём выражается верность в её широком понимании, почему сказанное слово никогда не должно расходиться, а должны служить справедливости, преданности и благородству в отношениях с обеих сторон – не говоря уже о помощи слабому, уважению к старшим (в особенности, к женщине), храбрости, честности и бескомпромисности, которые характерны для традиций обоих народов. Это основные качества и я не зря их перечислила, ибо по каждому из этих качеств мы с моей коллегой провели тщательные исследования фольклора грузин и вайнахов. Они сумели донести до нас то благо, которым мы руководствуемся в течение уже многих веков и даже в наше, такое сложное время пытаемся хоть в какой-то мере передать их нашим детям.
Есть другие темы, где эти качества в своё время осели: общие границы, которые всегда были номинальные, хотя каждая из сторон знала, что и кому принадлежит. Детей, которых с малых лет обучали тому, как надо жить с ближайшим соседом и как надо строить отношения, которые основывались только на позитиве, учить их тому, что этот позитив бесценен и, что надо его оберегать, чтобы не пропасть по-одиночке. Всё это сохранилось в речи и во всех традициях, как грузин, так и чеченцев и ингушей вплоть до юмора, который тоже одинаково близок обеим сторонам [Шавхелишвили, Табидзе, 2017].
Рукопись, о которой я хочу поведать читателю, написана на грузинском языке. В ней много интересного, такого, что на сегодня почти нигде прочтёшь. Уникальность её в том, что в ней описаны те отрасли и объекты, которые фукционировали в Грозном, основателями и делопроизводителями были грузины. Они представлены по-фамильно и указаны их контакты с местными делопроизводителями. Сам текст записи относится к времени проживания моей семьи в г. Грозном (1958-1966 г.г.), точной даты нет и сама рукопись, думаю, была по объёму много больше, так как к концу она внезапно обрывается, без указания каких-либо данных. Заранее оговорюсь, что термином кисти рассказчик называет совместно чеченцев и ингушей.
Респодент, с которым ведётся беседа, - Роинишвили Вано (Иванэ) Давидович, 1890 г. рождения, в то временя проживал в г. Грозном по ул. Декабря, 8. По его словам, в Грозный он приехал в 1921 г. В то время там жил телавский армянин Рубен Адельханов, который в Грозном владел несколькими магазинами. Отец Вано и Адельханов были хорошими знакомыми, потому он решил отдать своего сына в подмастерья к Рубену, «чтобы тот чему-либо научился». Семья Вано жила во Владикавказе, хотя происходили они из Душети, то есть были мтиульцы. Далее со слов Вано: «В месяц Рубен мне платил три рубля. Когда я получил первый заработок, поехал домой и отдал их отцу, он передал эти деньги моей матери и сказал: Сохрани эти деньги, на них мы купим барана и зарежем в честь начала трудовой деятельности нашего сына... Так и поступили: купили барана, зарезали его и пригласили всю родню, чтобы отметить мой первый заработок». Адельханов, по его словам, был очень толковый коммерсант, имел не только магазины, но и винный погреб, где продавлось вино, которое на арбах ему привозили из Телави. Судя по его же рассказу, учитель он тоже был неплохой.
В Грозном было немало винных пунктов, которыми управляли грузины. Пункты в основном располагались в подвальных помещениях и, по сведениям респодента, в городе их насчитывалось более двадцати. Они располагались в центре города, неподалёку от центрального рынка. Население города и близлежащих станиц (так он называет сёла), в основном, употребляло грузинское вино. Особым спросом пользовалось кахетинское вино. Уважаемый Вано вспоминает, что было восемь таких подвалов, отведённых под винные погреба, теперь со слов собеседника: «Они принадлежали братьям Лобжанидзе, которые торговли вином имели большую прибыль. Каждый август они на 20-30 арбах привозили вино и водку из Кахети. Этого запаса хватало на всю зиму. За всеми делами присматривали сами братья. Это касалось транспортировки вина, его сортировки, разлива, сохранения и т. д., а продавцов они нанимали из местных горцев, которым платили по пять рублей в месяц. Мне тоже довелось работать у них в течение 2 лет. Я был очень доволен, так как мне платили восемь рублей, и это были в то время неплохие деньги ...».
По сведениям Вано Роинишвили в начале ХХ в. и в период Первой Мировой войны, в г. Грозном функционировал даже винный завод, им руководил Захарий Кикнадзе. Захарий пользовался очень большим авторитетом, к тому же был богат, поэтому с ним дружили все, как чеченцы, ингуши, так и русские, евреи и представители других национальностей. Ему настолько доверяли, что на самые званные обеды подавалось вино, закупленное на его заводе. Кроме завода, в разных уголках Грозного были открыты пункты продажи виноводочных товаров. Захарий, как правило, торговал кахетинским и имеретинским винами и чачей. Они имели такой большой спрос, что вывозились в соседние населённые пункты и даже в Россию. Это были марочные вина, которые были премированы на разных конкурсах по виноделию, поэтому, и спрос был на них большой. На заводе Захария Кикнадзе было занято более 100 человек. Заводские запасы вина пополнялись из погребов Кахети и Имерети. Этим занимались два человека из местных: один из них работал по Кахети, другой - по Имерети. Каждую осень из Грузии шли по 40 фургонов арбы из обоих регинов, которые добирались только в одну сторону за 20–25 дней. Вместе с вином завозились сухофрукты, чурчхели и прянности. Транспорт, конечно же, нанимался, но в Грузию он тоже шёл нагруженный, из Грозного везли зерно и кукурузу. «Кистинские зерно и кукуруза очень хорошо раскупалась в Грузии», - рассказывает уважаемый Вано, «особенно они ценились в Картл-Кахети и Имерети. Спрос на них настолько был велик, что в Грозный для их закупки приезжали сами имеретинцы».
В подлинности описанных проф. А. Шавхелишвили сведений, мы не сомневаемся, ибо предоставленная батони Вано информация была, с одной стороны, его собственной биографией, а, с другой, - поведанная ему его же отцом информация, с которым Вано провёл всю свою сознательную жизнь. Его отец прожил около ста лет и умер в 1928 г., то есть, когда отца не стало, Вано было уже 38 лет. Это подтверждается припиской следующего содержания, сделанной автором данной рукописи А. Шавхелишвили о З. Кикнадзе: «Захарий Кикнадзе имел в собственности всю виноводочную торговлю, что распологалась в периметре Грозного и Кизляра. Он пользовался большим авторитетом не только среди персонала, но и среди всего населения Кавказа, так как был очень добропорядочным, умным и образованным для своего времени человеком, меценатство ему было не чуждо. Он имел недвижимость, как в Грозном, так и в Кизляре, Тбилиси и во Владикавказе».
Интересна и другая информация, предоставленная Вано Роинишвили. Оказывается, в г. Грозном конца XIX и нач. ХХ вв. продавалось и зестафонское вино (имеретинское). Оно очень ценилось своей лёгкостью и своеобразием вкусовых качеств; его поставщиком были братья Кочиашвили: Шота, Вано и Степанэ. Степанэ был старший из братьев и, по-видимому, самый организованный, промыслом руководил он, а Вано и Шота занимались закупкой и транспортировкой вина из Зестафони, сопровождая груз в оба конца. Надо заметить, что транспорт в Грузию без какого-либо встречного груза Степанэ тоже не отпускал, отправлял в основном кукурузу. Согласно Вано, его отец хорошо знал Степанэ и встречался с ним не раз, когда появлялись какие-то проблемы. Дело в том, что Степанэ слыл человеком, который легко улаживал все, даже самые острые вопросы и безотказно помогал, особенно своим. Винные погреба братьев Кочиашвили были открыты в трёх районах Грозного. Их торговля всегда шла бойко, так как имеретинское вино у населения пользовалось наибольшим спросом. Даже осетины из Коби приезжали за ним в Грозный. Степанэ был женат, его семья жила во Владикавказе, а о семейном положении остальных братьев Вано не знал, хотя знал, что с Грузией и Тбилиси у них связь никогда не прерывалась. Послереволюционная судьба братьев Кочиашвили тоже ему была неизвестна.
Отец Вано жил во Владикавказе, но наездами часто бывал в Грозном, то к сыну, то просто повидаться с друзьями, которые периодически подключали его к своим торговым делам. Он дружил с братьями Кочиашвили, поэтому по их просьбе, часто отправлялся в Кахети и Картли для закупки вина и брал с собой сына. Из детских воспоминаний Вано мы видим, что отцы с подросткового возраста старались приобщить своих детей к труду, который порой был не лёгок. Несмотря на трудности, в зрелом возрасте они вспоминаются с некой ностальгией. Так и Вано с удовольствием и с большой теплотой вспоминает свои поездки с отцом в Грузию: те нескончаемо-длинные дороги, которые им приходилось преодолевать и даже трудную работу, которую ему приходилось выполнять.
Ещё один винодел из грузин, который жил в Грозном, Вано Схиртладзе. Он торговал разными сортами вин, которые сам привозил из грузинской глубинки, называемой Картли. Он имел три погреба в Грозном и один в Кизляре. Его погреба отличались тем, что там можно было купить вино, посидеть за накрытым столом и провести дегустацию вин. Он торговал белым вином и «Саперави». Красное «Саперави», как правило, любили русские. Вино хранилось в больших дубовых бочках, которые изготавливали на Северном Кавказе. Все погреба Вано Схиртладзе находились в центре города вдоль главной городской улицы, где располагался центральный рынок. Здесь собиралось всё население города и, как правило, без вина никто не возвращался домой, поэтому торговля шла постоянно и доходы приносила ощутимые. Вино Схиртладзе завозилось на арбах с закрытыми фургонами. У него работало трое грузин, далее со слов Вано: « Фамилию одного из них не помню, а двое других были из фамилий Кушашвили и Гудушаури. В месяц их оклад составлял 30 рублей. Груз в Грузию Схиртладзе сопровождал почти всегда сам. Дорога, как правило, занимала много времени, поэтому завозом вин начинали заниматься с начала осени. Из Грозного Вано вывозил зерно или кукрузную муку, которые в Картли тоже очень ценились. Занимались и бартером, что приносило большую выгоду обеим сторонам».
Ещё один интересный человек и предприниматель из дореволюцонных грозненских грузин, который Вано часто упоминает, был некий Мепурнишвили (Мепурнов), он имел собственную швейную фабрику. В ней занимались пошивом женских и мужских черкесок и бурок. На фабрике работало более 20 человек: они были распределены по нескольким цехам, где каждому был отведён свой участок работы: шитьём занимались горские еврейки и мужчины (в основном армяне), шерстяными изделиями были заняты кистинки (так он называет вайнашек) и дагестанки, а всю чёрную работу (окраска тканей, глажка и уборка) делали все, кто хотел иметь работу. Всем процессом шитья руководили сами грузины. Особенно славились мепуровские черкески , которые продавались в двух его же магазинах
Грозного и Кизляра. Весь его товар был очень качественный, особенно бурки. Их выделку он доверял, как Вано их называет, кистинкам. Бурки были разных видов: парадные, пастушечьи и боевые. Парадные бурки были украшены удлиннённой шерстью, которая свисала спереди, а плечи вырезались формой нынешнего реглана ; они были до пят и стоили очень дорого: 15– 20 рублей. Их покупали только зажиточные семьи. Боевые бурки были короткие и лёгкие, а пастушечьи делались из самой низкосортной шерсти, хотя их выделка была настолько качественной, что они были популярны у грузинских чабанов, которые закупали их по 20–30 штук, стоили они недорого. Их с большим энтузиазмом покупали и казаки, так как они были тёплые и долго носились. Таким образом, у фабрики от заказчиков и покупателей не было отбоя. Шерсть, как правило, закупалась у чеченцев и дагестанцев, так как они продавали по доступной цене. Тушинская шерсть была более качественной и цена была высокая, поэтому она покупалась в исключительных случаях, когда заказ шёл от высокопоставленных лиц. Её покупали для шитья элитарной одежды, так как изделия из неё получались очень красивые и лёгкие. Продажей бурок занимался армянин Гиорги Мквиян; он был большой балагур, поэтому распродажа бурок шла без проблем. Бурки нередко обменивали на скот. Вано рассказывал, что как-то он сам сопровождал Гиоргия в чеченские сёла, где от реализации бурок они собрали 37 голов крупного рогатого скота и на второй же день, с большой выгодой их продали. Надо заметить, что сам Мепурнишвили был не только состоятельным человеком, но и безотказным. За это местное население его очень уважало.
Кроме Мепурнова, в Грозном жила большая семья Гвритишвили, которые тоже занимались пошивом одежды и имели свою собственную фабрику. Это были беженцы из Грузии, которые ушли, боясь кровной мести: один из их братьев случайно убил своего односельчанина. Старший из братев Павле был наиболее предприимчивый, поэтому через 3– 4 года после их переселения в Грозный, примерно в 1900 г., смог открыть сначала цех, а затем расширить его до небольшой фабрики. Это была маленькая фабрика, здесь занимались пошивом не только женской и мужской одежды, но и шили обувь, сумки. На фабрике работали два главных мастера, специально приглашённых из Телави: армяне Иванэ и Геворк Мквиян, которые считались профессионалами своего дела. Сырьё для пошива братья Гвритишвили завозили в основном из Астрахани, хотя иногда за ним ездили в Тбилиси, наряду с закупкой сырья, они искали хороших мастеров по пошиву одежды, их всегда не хватало. Хотя, у хороших мастеров и здесь хватало работы, поэтому ни на какие уговоры они не шли, соглашались исключительно на хорошую зарплату. Надо заметить, что товар братьев Гвритишвили был востребован и в Тбилиси, поэтому изделия в Тбилиси они тоже привозили. «Я сам тоже не раз ездил с ними в Грузию и своими глазами видел, как раскупались черкески, пошитые на их фабрике», – вспоминает Вано Роинишвили. Кроме фабрики, братьям Гвритишвили принадлежала небольшая гостиница. Семья Гвритишвили была большая: родители, три брата и две сестры. К ним добавлялась родня второй и даже третьей линии, которые тоже были задействованы на фабрике. Жили все дружно и занимались одним общим ремеслом. Очень музыкальная была эта семья, все хорошо пели, играли на разных инструментах, особенно отец, который был музыкально очень одарённым и играл на пандури, даире и гитаре. Они купили небольшой дом из шести комнат, но позже так разрослись, что занимали целый квартал, который местные жители называли грузинским. Здесь они прожили вплоть до 1935 г. Все жили одной большой семьёй и поддерживали друг друга. «Пели и играли в основном грузины, а в танце первенство всегда было за кистинцами», - почёркивает уважаемый Вано, - «недаром у них есть поговорка: мужчину оцени в танце, а женщину в труде ...». Эти посиделки плавно переходили в концерты в клубах, к которым часто присоединялись, приехавшие из Грузии народные исполнители. В основном приезжали из Кахети. По воспоминаниям Вано, эти концерты оставляли неизгладимое впечатление, так как к ним присоединялись местные грузинские и кистинские исполнители: «Местные жители очень уважали грузинские песни и не упускали случая их послушать как в семье Гвритишвили, так и на концертах. Уважаемый Вано помнил названия песен, которые исполнялись в те времена: «Гапринти шаво мерцхало» («Лети, чёрная ласточка»), «Урмули» («Напевы погонщика»). У грузинского многоголосья нет конкурентов, но танцы кистов (он имеет в виду чеченцев и ингушей) были одни из лучших среди танцев кавказских народов, потому что они насыщены множеством танцевальных трюков.
Недалеко от железной дороги г. Грозного была открыта мастерская по пошиву головных уборов. Она принадлежала Шалве Гарибашвили. Из выделанной кожи ягнят здесь шили мужские каракулевые шапки. Они пользовались очень большим спросом, были гордостью и символом значимости горцев. Для стариков они шились в обязательном порядке, с возрастом они становились старейшинами и уважаемыми людьми, независимо от их биографии, ибо считалось, что старикам с возрастом все грехи прощаются, так как они приобщаются к духовной жизни и готовят себя к уходу в рай. Эти головные уборы (папахи) были разные по величине и качеству, поэтому цена на них тоже была разная. Самые качественные папахи назывались гаребандули и стоили по 3-5 рублей, это было очень дорого и их покупали только состоятельные семьи. Их покупали и сунженские и терские казаки. Папаха считалась обязательным атрибутом их одежды. Вообще, торговля в станицах была очень выгодной, шла не только бойкая торговля, но и закупались краски, шерстяные нитки и другие атрибуты для шитья. Иголки, как правило, завозились из Владикавказа.
Надо заметить, что головные уборы, сшитые у Шалвы Гарибашвили, славились качеством по всему Северному Кавакзу и спрос на них тоже был большой. Папахи покупали не только для стариков, но и для детей. К цеху, как правило, примыкал торговый пункт, где производилась реализация товара. Для его продажи нередко совершали выезды в окрестные сёла. Они сопровождались охраной из двух-трёх человек, которые кроме исполнения своего прямого долга, бойко учавствовали в торговом процессе и за это получали дополнительный заработок.
Шалва Гарибашвили пользовался авторитетом среди горцев и казаков, его называли человеком, который словами и обещаниями не разбрасывается, всегда ответственен и готов придти на помощь, если понадобится. Этим он сумел завоевать доверие, поэтому у него было много друзей среди местного населения, не только из простолюдин, но и из знати.
Кроме Гарибашвили, в Грозном этим промыслом занимались Гио (Гиорги) Мрелашвили и двое его братьев. Они происходили из грузинской провинции Кахети и оказались в Грозном с легкой руки Шалико, который помог им перебраться в Грозный, обучил ремеслу, а затем помог создать собственный цех. Материал для пошива кожанных изделий закупался у местного населения, а для каракулевых шапок, несмотря на дороговизну, у тех, кто занимался завозом каракульчи издалека. Сами мастера тоже были профессионалы, доброжелательно относились к заказчикам, поэтому оплата за товар никогда не вызывала вопросов. Братья Мрелашвили настолько ответственно относились к делу, что работали наравне с нанятыми мастерами, не гнушаясь никакой работы, своими руками выделывали кожу, обрабатывали её и подготавливали к раскрою. Такая преданность делу им принесла и известность, и достаток, который был не так уж и мал, что позволяло открыть дополнительные цеха в Кизляре. Все братья Мрелашвили женились на грузинках и создали хорошие семьи; вплоть до 1937 г. жили в Грозном.
Здесь неоднократно упоминалось, что рядом с цехами грузинские предприниматели открывали лавки для реализации продукции. Это так и есть, однако, среди них были и такие, которые единолично были владельцами собственных магазинов. Одним из них был Сандро Мержошвили, который имел три магазина тканей. Магазины снабжались товаром, завезённым из России и Тифлиса. Он был очень толковым предпринимателем и сумел накопить большое богатство. «В одно время, – вспоминает Вано, – меня он приглашал к себе в ученики, но отец уже определил к Рубену Альдерханову, поэтому не мог же я самовольно уйти к нему». Слово отца в те времена много значило и не подвергалось сомнению или протесту, поэтому не для одного Вано была испытанием трудовая жизнь у нерадивых наставников.
Сандро Мержошвили в Грозный тоже приехал вместе с братьями Сандро (Алекси), Ясоном и Лазаре. Руководством магазинами занимался старик Сандро, младшие занимались организацией транспорта, охраны и обеспечением рабочей силой и завозом товаров. Товар для продажи из-за погодных условий завозили весной и летом на фургонах, которые тщательно укрывались от дождей. Ткани были в основном для женской одежды, так как на них спрос был больше. Магазины тканей распологались в одном ряду с Мациевскими, они были одни из самых богатых чеченцев, занятых в этой сфере. По сравнению с мациевским, говоря сегодняшним языком, бизнес Мержошвили был скромнее, но конкуренцию по качеству товаров мог составить. В магазинах братьев было занято более двадцати человек, которым в месяц платили по 6 рублей.
Хлебопекарней в Грозном тоже занимались грузины. Например, семьи Лобжанидзе имели пекарню и крупные грузинские тонэ, где пекли лаваши. За одну выпечку они вынимали по 20–30 штук. Хлеб, как правило, пекли с утра до ночи и без отдыха. Мука для выпечки хлеба закупалась у местного населения. Пекарей привозили из Грузии, 6 человек месили тесто, 6 закрепляли их в тонэ, а 2 вынимали уже печённый хлеб; тонэ для печки лаваши готовили с раннего утра трое рабочих. Процесс был непрерывный, поэтому требовал большого физического напряжения и сил. Зарплата непосредственно тех, кто закреплял хлеб в тонэ была значительно больше: 15–20 рублей, так как это была самая тяжёлая работа, поэтому пекарей, занятых закреплением хлебных форм в горячих тонэ, меняли в каждые две недели. Тогдашние тонэ были очень толстые в диаметре, поэтому требовалось много дров, чтобы их растопить, зато потом темпертура держалась долго, что позволяло безостановочно печь хлеб в течение определённого промежутка времени. В Грозном тонэ было в двух местах, хотя пекарен, где пекли хлеб разных сортов было немало. Цена на грузинский хлеб тоже была доступной: 10 лавашей можно было купить за 1 рубль. В день продавали более 1000 штук, поэтому зарплата пекарей была высокой: 8–9 руб. Самый знаменитый из пекарей был Датико Лобжанидзе, который тонэ имел и в других городах. Его хлеб был известен на всём Северном Кавказе. Хлебопекарня приносила очень большой доход, поэтому Датико тоже был очень богат, владел недвижимостью в Тбилиси, в Грозном, во Владикавказе и даже у себя на родине в Раче.
Ещё одно дело, которым занимались приезжие грузины, это были места, где можно было вкусно перекусить. Местные жители имели собственную кухню, поэтому семьи кормили национальными блюдами, но поесть шашлык, хинкали, чакапули и другие грузинские блюда можно было у рачинцев. Все перечисленные блюда и в добавок хашлама, чахохбили, хаши, харчо и бозбаши были привнесены в кулинарию северных кавказцев именно из Грузии.
К концу XIX в. в Грозном грузинским кулинарным делом, кроме Лобжанидзе, успешно занимались братья Гагнидзе. Имена их всех, к сожалению, наш респодент не помнит, но хорошо помнит, что они были родом из грузинской Рачи, поэтому все приправы и зелень они сами завозили в Грозный из родных краёв. Особенно славились блюда Петрэ Гагнидзе, чтобы их отпробовать его кулинарные шедевры, в Грозный приезжали из других городов Северного Кавказа. Мясо для блюд закупалось на местных бойнях, птицефермах и у населения. Братья Гагнидзе открыли «Сахашэ», где готовили хаши - навар из костей и брюшины, заправленный разными специями; у населения он пользовался невероятным спросом, особенно у мужчин. Надо заметить, хаши можно было заказать во всех грузинских заведениях Грозного, но «Сахаше» принадлежло только Петрэ.
Незабываемый след в Грозном оставил Сандро Кобиашвили, фотограф. Его фотостудия была открыта в одном из подвалов города. Вот уж к кому народ шёл с большим энтузиазмом и позитивом. От клиентов у него не было отбоя, так как качество фотографий, которые он изготавливал, было высоким, его имя было у всех на устах. Он был по происхождению из г. Телави. В Грозный приехал сначала один, а позже перевёз семью. С Сандро мог конкурировать только Гиорги Роинишвили, который доводился родственником нашему Вано. Гиорги работал фотографом в Канцелярии наместника Царского Престола, поэтому был известен повсюду, вплоть до Петербурга.
Очень интересные сведения наш респондент вспоминает в связи с поселением Базоркино, где проживали ингуши, он называет их кистами. По его словам, земля, на которой они жили, была на редкость плодородной, поэтому приносила большой урожай кукрузы, который по военно-грузинской дороге вывозили на продажу в Грузию. Этот промысел принадлежал братьям Базоркиным: Муртазу, Асламбеку, Магомеду и Эдильбеку. Вано особенно запомнил 1901 г., когда эти братья на 80 фургонах вывезли кукурузу в Имерети и выгодно реализовали. Из Базоркино в Тифлис, кроме кукурузы, на продажу перегоняли скот, особенно ценился крупный рогатый скот, как тяговая сила.
В рукописи есть ещё несколько интересных справок, касающихся грузин, которые проживали на Северном Кавказе. Вот одна из них: «В сегодняшнем селе Карагандинсом, его тогда называли станицей, жили грузины по фамилии Карагашвили. Их было много и они занимали почти всё село. С некоторыми из них очень дружил мой отец. Это были очень зажиточные люди, которые своими руками создавали достаток, занимаясь виноградорством, бахчеводством, коневодством, пасекой, имели приусадебные огороды, где разводили все, известные в то время овощи. Слыли трудолюбием и добропорядочностью. В селе имелась церковь, где служба проходила на грузинском языке. Женщины были большие рукодельницы: вязали паласы, коврики и прочие изделия.
В станице Щелковской тоже жили грузинские семьи из фамилии Шаликашвили. Рассказывали, что в их семьях было много книг. Они имели виноградники и занимались виноделием. Они обрусели, несмотря на то, что создавая семьи, они старались искать свою вторую половину среди своих же грузин. Единственное, что их отличает сейчас от окружающих казаков то, что они не забыли, как выращивать виноград, поэтому они их по сей день называют шелковские грузины .
Та же участь постигла грузин, которые жили в Кизляре, их район называли «Сасопло» (от груз. сопели «село» ). Там тоже проживало несколько семей, которые происходили из грузинского с. Душети и Картли. Фамилии их, к сожалению, не помню, но хорошо помню, как отец рассказывал, что они всегда держались вместе и занимались рыбным промыслом и торговлей рыбы. По его словам, они соблюдали все грузинские обряды и традиции свадеб и похорон, имели священника, пели грузинские песни и умели играть на чонгури».
Теперь несколько слов о самом Вано Роинишвили: с 1913 по 1916 гг. он проходил армейскую службу. Был ранен в Нахичиване, где его лечил врач Утурашвили, который сам был из Владикавказа. После демобилизации Вано вернулся в Грозный и продолжил свою коммерческую деятельность: работал в магазине и даже заведовал им, занимался виноделием и в возрасте почти 80 лет вышел на пенсию; на момент записи этих воспоминаний проживал в Грозном.
Все эти сведения взяты из рукописи, которая, как я указывала, принадлежит А. Шавхелишвили. Сама рукопись, внезапно прерывается. Неизвестно, когда записывался данный материал, хотя почерк вне сомнения принадлежит моему отцу, его трудно спутать с каким-либо другим, так как он очень индивидуальный запоминающийся. Неизвестно и то, что потом стало с его респондентом. Если уважаемый Вано родился в 1890 г., то ко времени встречи с моим отцом ему было много за 80 лет. Эти записи показывают насколько дружественные и доверительные были отношения между грузинами и горцами, в частности, вайнахами. И это очень ценно, ибо в противном случае, грузины не остались бы жить в Грозном и не занимались бы предпринимательством в течение многих лет. Многие вернулись на родину, но не все, например, сам Вано Роинишвили.
Было бы интересно узнать какие контакты были характерны в рассмотренный нами отрезок времени (конец XIX нач. XX вв.). Думаю, эта статья увидит свет и на Северном Кавказе, где жило очень много грузин и их след уходит в глубь веков, в поиске многих пятигорских, серноводских и кисловодских серных и других полезных источников активное участие принимали многие грузинские учёные и врачи. В строительстве курортов и бальнеологических заведений их вклад тоже неоценим. Именами грузинских врачей названы улицы и лечебные заведения (Лобжанидзе в г. Пятигорске). Было бы интересно ознакомиться с подобным материалом из этих мест, а если они ещё не исследованы, то думаю, что их непременно надо изучить. Без прошлого наше будущее зыбко и бесперспективно. А совместными добрососедскими и взаимодоверительными отношениями и стараниями мы сумеем сохранить эти блага и, как минимум, передать нашему подрастающему поколению.
Shavkhelishvili B. A.
Ph.D. (Philology),
Sukhumsky State University
GEORGIAN BUSINESS CONTACTS AND VAINAKHOV
It has been working many years since Prof. A. Shavkhelishvili died, Iʼm working on his archive and find with genuine surprise that the materials collected and stored by him are very interesting to this day, both from a historical point of view and from the point of view of contacts that were established between the highlanders of the North Caucasus and Georgia at all times. They were based not only on just good neighborly relations, but for both sides they represented a unity of values and common postulates as neighbors, which regulated these relations to the smallest detail. That is why it was not difficult to establish purely pragmatic ties between two parties. Now they are called business partnership. But unlike the current business – they were extremely transparent, very trusting and most importantly – safe.