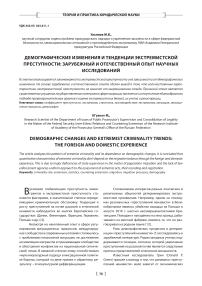Демографические изменения и тенденции экстремистской преступности: зарубежный и отечественный опыт научных исследований
Автор: Ульянов М.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются закономерности экстремистской преступности и ее зависимости от демографических изменений. На основе зарубежного и отечественного опыта сделан вывод о том, что количественные харак- теристики экстремистской преступности не зависят от миграционного сальдо. Причиной этого являются существенные упущения государственного контроля в сфере миграции населения и отсутствие единообразного подхода правоохранительных органов к оценке экстремистских деяний, их учета и регистрации
Коэффициент преступности, экстремизм, статистика, противодействие экстремизму, миграция, миграционные процессы, демография
Короткий адрес: https://sciup.org/14120153
IDR: 14120153 | УДК: 343.97;
Текст научной статьи Демографические изменения и тенденции экстремистской преступности: зарубежный и отечественный опыт научных исследований
В условиях глобализации преступность иммигрантов и экстремистская преступность становятся факторами, в значительной степени определяющими криминогенную обстановку. Тенденция к росту преступлений на почве расовой и этнической ненависти наблюдается во многих Европейских государствах (Дании, Финляндии, Франции, Германии, Польше и др.) [4].
Несмотря на накопленный опыт в сфере регулирования миграционных процессов, международ-ноесообщество всовременныхусловияхстолкнулось с проблемами незаконной миграции, не достижения ассимиляции мигрантов в принимающем сообществе и обострения конфликтов на национальной (этнической) почве. В немалой степени этому способствовал «мультикультурный подход» в миграционной политике Европы, который на деле привел к обратному результату – этнокультурной дифференциации.
Столкновение интересов разных этнических и религиозных общностей детерминировало экстремистские проявления. Например, одним из последних резонансных «преступлений ненависти» в Великобритании явилось убийство выходца из Польши в августе 2016 г. шестью несовершеннолетними британцами. Поводом к нападению на иностранца, работавшего на местной фабрике, явилось то, что он разговаривал на родном языке [13].
Роль демографических процессов в детерминации «преступлений ненависти» [1] исследовались в зарубежной литературе. Рядом западных ученых поддерживается позиция, согласно которой увеличение преступлений на расовой почве является следствием притока представителей этнических меньшинств.
Известный исследователь Грин (Donald P. Green) пришел к выводу о том, что динамика «преступлений ненависти» мало зависит от экономических условий, в то время как демографические изменения имеют превалирующее значение [9]. По результатам изучения состояния «расово мотивированной преступности» в г. Нью-Йорке им установлено, что при наличии существенного притока представителей меньшинств (minority) количество «преступлений ненависти», направленных против них, возрастает в районах с преобладанием «белого» населения, в тех же районах города, в которых представители этнических меньшинств уже проживали долгое время в значительном количестве, уровень этого вида преступности ниже [10].
Аналогичное исследование проводилось на основании анализа статистических показателей «преступлений ненависти» (в отношении как «черного», так и «белого» населения) и этнического состава американского города Чикаго. Было установлено, что преступления в отношении «черного» населения имеют большее распространение в районах города с численным большинством и однородностью «белого» населения. Характерно, что в отношении «белого» населения «преступления ненависти» получают большее распространение при наличии приблизительно равных пропорций «белого» и «черного» населения [12].
При изучении «преступлений ненависти» в районах г. Лондона английский криминолог Игански (Paul Iganski) пришел к cхожему выводу о том, что районы традиционного проживания «белого» населения, в которых происходят демографические изменения под влиянием представителей этнических меньшинств, имеют больший уровень «преступлений ненависти» по сравнению с районами с такими же демографическими изменениями, но где количество «белого» населения меньше [11].
Американец Стейси (Stacey M.) пришел к несколько иным выводам. При изучении последствий испаноязычной (hispanic) миграции в США в период 2000 – 2004 гг. на общегосударственном уровне и уровне отдельных штатов им установлена положительная статистическая зависимость между коэффициентами миграции и коэффициентами «преступлений ненависти»,совершенных в отношении мигрантов. Ученым оспаривается заключение Грина о нелинейной зависимости коэффициентов миграции и «преступлений ненависти» [14].
Приведем результаты еще одного исследования. На основе статистических показателей в четырнадцати государствах Европейского союза было установлено, что уровень распространения «преступлений ненависти» положительно коррелирует с размером иммигрантской общины. Количественные характеристики миграции, по мнению автора исследования, выступают в качестве основного фактора, объясняющего распространение данного вида пре- ступности, в то же время ему не удалось установить зависимость от социально-экономических и демографических факторов [15].
Результаты приведенных исследований можно обобщить в следущих тезисах:
-
миграция населения выступает в качестве основной детерминанты экстремистской преступности;
-
динамика экстремистской преступности зависит от интенсивности миграционного притока и соотношений коренного и прибывшего населения;
характеристики (структура, динамика) экстремистской преступности могут не совпадать на общегосударственном, региональном уровнях и уровнях первичных территориальных образований.
Наработки западных криминологов представляют интерес и могут быть сопоставимы с результатами исследований закономерностей экстремистской преступности в нашей стране.
Надо сказать, что социально-демографические процессы анализировались и в отечественной криминологии применительно к иной общественной формации. Воздействие миграционных и демографических процессов на преступность с 1970-х гг. исследовались виднейшим криминологом М.М. Бабаевым. Методы его исследований, а также общие выводы о влиянии миграции населения на преступность в целом, представляют большую ценность и в нынешних условиях. В прикладных исследованиях им анализировались показатели характерной для того времени планомерной миграции, куда включались организованный набор рабочих и трудоустройство молодежи в других регионах страны.
Ученый, в частности, отмечал повышенную криминогенность преступников-мигрантов. По его мнению, «по некоторым основным социально-демографическим и уголовно-правовым признакам личности, но и по условиям социальной микросреды преступники-мигранты отличаются качественным образом от преступников-постоянных жителей. Первый – более «криминогенный» контингент» [3].
В современный период среди криминологов, исследовавших феномен преступности иностранных граждан, следует отметить С.Н. Кобеца. К числу основных факторов, воздействующих на рост преступности иностранных граждан и лиц без гражданства, помимо влияния особенностей личности преступника, ученый относит целый ряд фактором, связанных с недостаточно эффективной деятельностью органов внутренних дел. Миграционная политика в Российской Федерации, по его мнению, должна строиться с учетом характерных особенностей социально-демографического развития каждого конкретного региона [5].
Незначительный удельный вес экстремистских преступлений в структуре всех регистрируемых преступлений в России и количественные показатели экстремистской преступности, к сожалению, не позволяют нам делать какие-либо выводы об их корреляции с количественными показателями иностранной миграции.
Надо сказать, что статистические данные об экстремистских преступлениях не отражают объективной картины распространения экстремизма в стране. В качестве основной причины можно назвать общий подход к уголовно-правовой оценке этих общественно опасных деяний. На практике де-факто совершенные по мотивам вражды и ненависти преступления часто квалифицируются как совершенные на почве личных неприязненных отношений,либо по хулиганским мотивам.
Исходя из этого, преступления экстремистской направленности обладают не только скрытой, но и скрываемой латентностью, когда мотивы деяний смешиваются с хулиганскими либо иными побуждениями, что существенно изменяет юридическую оценку содеянного. При этом правоохранительные органы могут принижать общественную опасность деяний, совершаемых в тех или иных социальных конфликтах, нередко имеющих массовый и развивающийся характер.
Так, до беспорядков в г. Кондопоге в сентябре 2006 г., в Республике Карелия преступления экстремистской направленности вообще не регистрировались. Лишь с 2006 г. здесь стали выявляться преступления исследуемого вида. Такая же ситуация наблюдалась и в Ханты-Мансийском автономном округе. При невысокой регистрации преступленийанализируемой категории, по результатам исследований социологов, в 2014 г. межэтническая напряженность в регионе оценивалась как очень высокая [6], что также подтверждает тезис о наличии скрываемой латентности.
Как видим, анализ количественных показателей экстремистской преступности лишь отчасти характеризует закономерности ее развития.
Одновременно с этим обоснованной критике подвергается и официальная статистика по мигра- ции в Российской Федерации. В открытых источниках практически отсутствуют объективные данные о миграционных процессах в субъектах Российской Федерации и первичных территориальных образованиях, включая миграцию иностранных граждан. Не менее важным представляется отсутствие полных сведений о количестве лиц, принятых в гражданство Российской Федерации, и их прежнем гражданстве.
Анализ и обобщение имеющихся статистических данных (при отсутствии достоверной информации в разрезе первичных территориальных единиц) дает представление лишь об общих тенденциях миграции в Российской Федерации.
Вместе с тем наличие устойчивой генетической связи между экстремистской преступностью и миграцией никто опровергнуть не смог.
Самым привлекательным в миграционном отношении регионом страны остается Центральный федеральный округ. В 2015 г. миграционный прирост в округе составил 221 756 человек. Абсолютные показатели прироста населения снижались лишь в период 2008 – 2010 гг. в условиях экономического кризиса (см. табл. 1).
В соответствии с данными Росстата в период 2008 – 2015 гг. в число регионов с наибольшими значениями коэффициентов миграционных приростов входили г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Белгородская, Новосибирская, Калужская, Томская и Калининградская области (таблица 2).
В большинстве регионов с наибольшими коэффициентами миграционных приростов в тот же период наблюдались высокие показатели абсолютных значений зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. Так, Москва и Московская область значительно опережали другие субъекты Центрального федерального округа по количеству зарегистрированных преступлений этого вида. Если в период 2008 –2015 г. в Москве в среднем ежегодно регистрировалось 77,4 преступлений, а в Московской
Таблица 1.
Миграционный прирост (убыль) населения по федеральным округам в 2008-2015 гг.
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Всего по России |
242 106 |
247 449 |
158 078 |
319 761 |
294 930 |
295 859 |
270 036 |
245 384 |
|
ЦФО |
174 403 |
159 763 |
161 087 |
214 449 |
239 771 |
231 061 |
216 900 |
221 756 |
|
СЗФО |
27 715 |
27 721 |
21 618 |
67 880 |
78 981 |
99 459 |
56 294 |
21 772 |
|
ЮФО |
33 627 |
28 449 |
21 725 |
59 119 |
37 547 |
62 436 |
47 205 |
48 361 |
|
СКФО1 |
-11 868 |
-7 565 |
-14 300 |
-31 769 |
-39 348 |
-38 135 |
-20 162 |
-24 811 |
|
ПФО |
16 221 |
26 658 |
-8 203 |
-12 385 |
-18 025 |
-14 559 |
-5 855 |
-24 591 |
|
УФО |
15 883 |
15 946 |
8 569 |
38 027 |
23 446 |
3 817 |
8 552 |
3 467 |
|
СФО |
5 324 |
14 396 |
-4 974 |
2 206 |
-7 561 |
-15 178 |
-8 146 |
-10 586 |
|
ДФО |
-19 199 |
-17 919 |
-27 444 |
-17 766 |
-19 881 |
-33 042 |
-24 752 |
-24 164 |
Таблица 2
Коэффициенты миграционных приростов (убыли) в субъектах Российской Федерации в 2008 – 2015 гг. на 1 тыс. населения в убывающей последовательности [7] (сведения за 2010 г. отсутствуют)
В Северо-Западного федеральном округе на фоне других субъектов выделяется г. Санкт-Петербурге (14,9), В Южном федеральном округе – Краснодарский край (17,5), в Сибирском федеральном округе –Новосибирская область (14,9). Указанные субъекты характеризуются высоким положительном сальдо как внутренней, так и международной миграции.
В число субъектов с высокой миграционной убылью (см. таблицу 2) вошли Республики Тыва, Коми, Саха (Якутия), Калмыкия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская, Архангельская, Мурманская и Магаданская области. Ряд этих субъектов (Республики Коми и Саха (Якутия), Мурманская и Архангельская области) отличается невысоким количеством зарегистрированных преступлений экстремистской направленности.
Таким образом, центры миграционного притока Российской Федерации, а именно Московский регион, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область характеризуются высокими абсолютными показателями зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. При этом колебания роста (снижения) уровня исследуемой категории преступлений коррелируют с сальдо миграции. В регионах, не вошедших в группу, указанную в таблице 2, устойчивой корреляционной связи установить не удалось.
В целом с уверенностью можно говорить о функциональной зависимости экстремистской преступности от миграционных процессов. В то же время на динамику и структуру экстремистской преступности в конкретных условиях места и времени оказывают влияние другие «случайные величины», которые могут кардинальным образом менять данные характеристики. К «случайным величинам», на наш взгляд, относятся, прежде всего, существенные упущения государственного контроля в сфере миграции населения в зависимости от конкретного региона страны и отсутствие единообразного подхода правоохранительных органов к оценке экстремистских деяний, их выявления, учета и регистрации.
Таблица 3
Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2008 – 2015 гг. в Центральном ФО
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Среднее |
|
|
ЦФО |
152 |
169 |
255 |
196 |
169 |
200 |
241 |
327 |
|
|
Белгородская обл. |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
4 |
1,8 |
|
Брянская обл. |
3 |
4 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
12 |
4,3 |
|
Владимирская обл. |
12 |
17 |
19 |
8 |
11 |
18 |
24 |
16 |
15,6 |
|
Воронежская обл. |
7 |
8 |
7 |
5 |
5 |
8 |
5 |
7 |
6,5 |
|
Ивановская обл. |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6 |
11 |
3,8 |
|
Калужская обл. |
5 |
8 |
9 |
10 |
6 |
7 |
6 |
8 |
7,4 |
|
Костромская обл. |
1 |
7 |
2 |
7 |
5 |
4 |
3 |
6 |
4,4 |
|
Курская обл. |
4 |
1 |
10 |
12 |
12 |
24 |
30 |
20 |
14,1 |
|
Липецкая обл. |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
1,9 |
|
Московская обл. |
6 |
27 |
49 |
39 |
44 |
45 |
36 |
60 |
38,3 |
|
Москва |
93 |
69 |
105 |
76 |
51 |
51 |
62 |
112 |
77,4 |
|
Орловская обл. |
6 |
4 |
15 |
9 |
11 |
6 |
15 |
16 |
10,3 |
|
Рязанская обл. |
0 |
8 |
3 |
3 |
0 |
3 |
8 |
7 |
4,0 |
|
Смоленская обл. |
0 |
2 |
3 |
4 |
2 |
4 |
5 |
9 |
3,6 |
|
Тамбовская обл. |
4 |
2 |
4 |
6 |
3 |
5 |
4 |
3 |
3,9 |
|
Тверская обл. |
3 |
6 |
9 |
3 |
3 |
5 |
15 |
19 |
7,9 |
|
Тульская обл. |
1 |
2 |
7 |
3 |
8 |
9 |
10 |
4 |
5,5 |
|
Ярославская обл. |
2 |
0 |
4 |
3 |
3 |
1 |
4 |
9 |
3,3 |
Если говорить о демографических процессах в целом, то следует сказать, что основные характеристики коренного населения каждой конкретной территориальной единицы воздействуют на состояние экстремистской преступности в той же мере, что и миграционные процессы.
Проследить это можно, главным образом, на примере Москвы и Московской области, которые, как было сказано выше, выделяются на фоне остальных субъектов Российской Федерации.
В то время как по данным переписей населения в Российской Федерации в период 2002 – 2010 гг. для большинства субъектов было характерно сокращение самых многочисленных этносов – русских, татар, украинцев и белорусов, в Московском регионе коренное население значительно увеличилось. В структуре населения региона стабильно высоким является удельный вес русских – более 85 % (таблица 4).
На этот регион приходится самая большая доля внешних и внутренних мигрантов в стране. В 2010 г. количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Москве составило 1 850 183 человек, в 2011 г. – 1 749 814, в 2012 г. – 1 763 357, в 2013 г. – 2 299 346, в 2014 г. их количество увеличилось до 2 948 310 человек и в 2015 г. – до 3 415 265 человек.
Как видно, для Москвы и Московской области характерны не только рост иностранной миграции, но и стабильная демографическая структура общества, отражающая сохранение высокой доли коренного населения.
В то же время Московский регион традиционно является одним из центров концентрации криминальных угроз, создаваемых населению преступностью мигрантов-иностранцев [8]. Ситуация осложняется тем, что в ряде районов Москвы и населенных пунктов Московской области отсутствует инфраструктура, которая может способствовать интеграции мигрантов в принимающем сообществе.
На этом фоне здесь велико абсолютное количество регистрируемых преступлений экстремистской направленности. На территории субъектов в разное время активно действовали организации экстремистского толка, в отношении ряда из которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Ими последовательно осуществлялось вовлечение в экстремистскую деятельность подростков и молодежи, что привело к радикализации наиболее активной части населения.
Именно в регионе произошли такие резонансные события, как нападение радикально настроенной молодежи на рынках в московских районах Ясенево и Царицыно в 2001 г., массовые беспорядки на Манежной площади в 2010 г. и Бирюлево в 2012 г., бес-
Таблица 4
По результатам исследования вопросов изменения национального (этнического) состава населения и динамики преступлений экстремистской направленности нам хотелось бы отметить следующие: основными криминогенными тенденциями миграции населения, предопределяющими динамику экстремистской преступности, являются: во-первых, постоянный рост миграционных потоков из-за пределов Российской Федерации, во-вторых, характер миграционных процессов внутри страны по направлению с Востока в Центр, особенно в Московский регион, г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и на Юг, преимущественно в Краснодарский и Ставропольский края;
высокие показатели количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности и концентрации экстремистской преступности [2] отмечены в центрах миграционного притока Российской Федерации (Московский регион, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область);
в отличие от результатов криминологических исследований, проводившихся в Великобритании и США, государственные органы которых установили жесткий контроль за миграционными процессами, в большинстве субъектов Российской Федерации количественные характеристики экстремистской преступности не показали зависимости от миграционного сальдо. Вероятнее всего это обусловлено существенными упущениями государственного контроля в сфере миграции населения в нашей стране и отсутствием единообразного подхода правоохранительных органов к оценке экстремистских деяний, их учета и регистрации, не позволяющие установить устойчивые закономерности в системе детерминации экстремистской преступности;
предполагается, что в регионе, в котором высок миграционный прирост, а коренное население остается структурно однородным и сохраняется на относительно стабильном уровне, с большей вероятностью могут проявлять себя организованные формы экстремистской деятельности, а следовательно, с неизбежностью возрастать уровень экстремистской преступности.
Список литературы Демографические изменения и тенденции экстремистской преступности: зарубежный и отечественный опыт научных исследований
- Подробнее о преступлениях ненависти - Агапов П.В., Борисов С.В., Меркурьев В.В., Примова Э.Н., Сухомлинова М.П., Щерба С.П. Международное сотрудничество зарубежных стран, в том числе государств - участников СНГ в борьбе с насильственными проявлениями экстремизма. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации (Научнометодический центр КСГП). М., 2013. 91 с.
- Андреев Б.В., Меркурьев В.В., Ульянов М.В. Об измерении степени дифференциации преступности экстремистской и террористической направленности // Вестник Академии права и управления. 2016. № 3 (44). С. 41-48.
- Бабаев М.М. Теоретические основы криминологического исследования социально-демографических процессов в СССР: дис. … док. юрид. наук: 12.00.07. М., 1975. 396 с.
- Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: дис. … док. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2015. 486 с.
- Кобец П.Н. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России: дис. … док. юрид. наук: 12.00.08. М., 2004. 450 с.