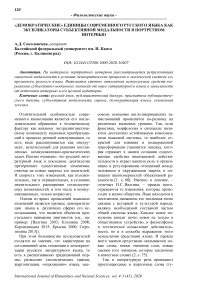"Демократические" единицы современного русского языка как экспликаторы субъективной модальности в портретном интервью
Автор: Соколовская А.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4-3 (43), 2020 года.
Бесплатный доступ
На материале портретных интервью рассматривается репрезентация оценочной модальности в условиях демократических процессов в лексической системе современного русского языка. Выявляется степень отклонения используемых средств выражения субъективно-модальных значений от норм литературного языка в зависимости от источника интервью и его целевой аудитории.
Русский язык, публицистический дискурс, прагматика публицистического текста, субъективная модальность, оценка, демократизация языка, сниженная лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/170190779
IDR: 170190779 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10407
Текст научной статьи "Демократические" единицы современного русского языка как экспликаторы субъективной модальности в портретном интервью
Отличительной особенностью современного языкознания является его последовательное обращение к человеческому фактору как важному экстралингвистиче-скому компоненту языковых преобразований в процессе речевой коммуникации, то есть язык рассматривается как инструмент, используемый для решения поставленных коммуникативно-прагматических задач. Вполне очевидно, что русский литературный язык в последние десятилетия претерпевает существенные изменения, отвечая на новые запросы его носителей. И скорость этих изменений, как положительных, так и отрицательных, в условиях значительного расширения технологических возможностей, в том числе и коммуникационных, только возрастает.
Одним из ярких проявлений языковых изменений является процесс демократизации языка в различных сферах его использования, что является объектом пристального внимания лингвистов (см., например: [Валгина 2003; Клушина 2008; Кормилицына 2015; Крысин 2000; Сиро-тинина 2013]).
При этом большинство исследователей сходятся во мнении, что характерная на сегодняшний день тенденция к демократизации русского литературного языка, то есть к расшатыванию традиционной нормы, размытию стилистических границ, жаргонизации, «опрощению» языка, мас- совому освоению англо-американских заимствований проявляется по-разному на различных языковых уровнях. Так, если фонетика, морфология и синтаксис являются достаточно устойчивыми компонентами языковой системы, то наиболее открытой для влияния и подверженной трансформации становится лексика, которая отражает в нашем сознании существенные свойства внеязыковой действительности и играет важную роль в организации и регулировании отношений между человеком и окружающим миром, в познании закономерностей объективной реальности [1, с. 68]. Именно в лексике, – отмечает Н.С. Валгина, – прежде всего, отражаются те изменения, которые происходят в жизни общества. Язык находится в постоянном движении, его эволюция тесно связана с историей и культурой народа, являясь необходимой составной частью общей системы языка. Каждое новое поколение вносит нечто новое не только в общественное устройство, в философское и эстетическое осмысление действительности, но и в способы выражения этого осмысления средствами языка. И прежде всего такими средствами оказываются новые слова, новые значения слов, новые оценки того значения, которое заключено в известных словах [2, с. 75].
Так, в литературную речь проникают простонародные и жаргонные слова (ту- совка, бардак, беспредел, бухать), стилистически сниженная лексика (фигня, хрень), многочисленные англоамериканские заимствования, пришедшие из интернет-культуры (окей, тренд, спам, лук, гаджет и пр.), неологизмы, возникшие путем типовых для русского языка словообразовательных моделей из заимствованных лексем (чатиться, тролить, ютьюберы, инстаграмщики, заюзанный, хайповать, схантить) и т. д.
Вполне закономерно, что тенденция к демократизации языка в первую очередь касается текстов медийного дискурса, в которых находят яркое отражение социальные процессы, влияющие на жизнь общества и впоследствии на словарный состав языка и его нормы.
В коммуникативно-прагматические задачи текстов СМИ, помимо достоверного изложения информации, всегда входит функция воздействия на адресата, поскольку публицистический текст обязательно имеет идеологический модус и предполагает общественную значимость [3, с. 68]. Очевидно, что в настоящее время происходит смещение фокуса медиатекста с объективной подачи информации на выражение авторской позиции, на продуцирование многочисленных оценочных суждений, экспликация которых в тексте невозможна без использования комплекса средств выражения субъективной модальности и тесно связанной с ней оценки.
Авторы соответствующих текстов для создания перлокутивного эффекта используют в речи яркие иностилевые элементы, поскольку оценочность в публицистике неразрывно связана с выбором номинации, которая в воздействующей речи очень редко бывает нейтральной. Выбор точного слова, способного подтвердить или опровергнуть определенную идею, способного самому стать идеей, - важнейшая задача публициста [3, с. 69].
В контексте вышесказанного больший интерес вызывает проявление тенденции к демократизации языка в портретном интервью как особом жанре публицистики, обладающем рядом специфических свойств, в числе которых имитация есте- ственной устной речи, наличие двух адресатов (собственно интервьюируемого и зрительской аудитории), высокая речевая активность, повышенные эмоциональность и экспрессивность речи, отсутствие коммуникативного барьера между собеседниками. Перечисленные характерные особенности рассматриваемого жанра дают участникам портретного интервью широкий простор для выбора речевых средств, эксплицирующих модально -оценочные значения в зависимости от складывающейся коммуникативной ситуации.
Говоря о соотношении категории модальности и оценки, стоит отметить, что мы, вслед за С.С. Ваулиной [4, с. 8], разделяем все многообразие оценок на две группы: собственно модальные оценки, выражающие план реально-сти/нереальности высказывания с точки зрения говорящего, степени достоверности, возможности и т.д., и немодальные оценки, в частности, качественные и эмоциональные, которые обогащают план содержания языковой модальности, формально не входя в ее структуру. Таким образом, на фундамент субъективных модально-оценочных значений накладывается надстройка из немодальных оценок-квалификаций объекта речи по шкале «хо-рошо/плохо» и сопровождающих эмоциональных реплик коммуникантов, выражающих радость-грусть, восхищение-недовольство и т.п. В связи с относительной (на федеральном канале), а иногда и полной (на интернет-платформе) свободой языкового выражения герои портретного интервью выбирают разнообразные средства экспликации оценок, среди которых весьма часто встречаем сниженную, просторечную и даже грубую ненормативную лексику.
Вполне очевидно, что средства выражения субъективной модальности и наслаиваемых на нее немодальных оценок находятся в прямой зависимости от говорящего субъекта, его личностных качеств, морально-этических норм, уровня образования, способности к адекватному восприятию окружающей действительности. Таким образом, через призму оценок, продуцируемых героями интервью, массовый адресат получает разностороннее представление о личностях этих героев, что, в конечном итоге, и является основной задачей портретного интервью.
В плане вышесказанного представляется интересным проследить, какие же «демократические» единицы современного русского языка выступают в качестве экс-пликаторов модально-оценочных значений в различных портретных интервью.
Материалом для нашего исследования послужили портретные интервью из циклов телепередач «Наедине со всеми» [5] с ведущей Юлией Высоцкой, «Познер» [6] с ведущим Владимиром Познером и фрагменты авторского шоу «вДудь» [7] журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на известной интернет-платформе. Нами намеренно были взяты образцы из разных программ с разной целевой аудиторией. «Наедине со всеми» - популярное дневное ток-шоу, в котором известные личности российского кино, театра, спорта рассказывают о ярких событиях своей биографии, повлиявших на их карьеру и личную жизнь. Акцент передачи смещен на эмоциональные реакции героев на происходившие в их жизни события. «Познер» – авторская программа В.В. Познера, где известные политики, общественные деятели, представители киноиндустрии и театра отвечают на вопросы, прямо или косвенно связанные с происходящими в мире событиями. Особенностями программы являются анализ и интерпретация героями интервью экономических, политических и культурных новостей, применение опросника марселя Пруста, отсутствие прямых вопросов о личной жизни, что говорит об интеллектуальной, «серьезной» направленности передачи. Авторское интернет-шоу «вДудь» , проходящее в формате интервью, привлекает, прежде всего, огромным охватом (несколько миллионов просмотров за сутки) зрительской аудитории, преимущественно молодежной, отсутствием каких бы то ни было рамок формата, полной свободой выражения героев, крайне провокационными вопросами ведущего.
Наиболее распространенные «демократические» единицы современного русского языка, эксплицирующие в портретных интервью различные виды модальнооценочных значений, можно условно разделить на три категории:
-
1) просторечные слова и выражения;
-
2) англоамериканизмы;
-
3) жаргонизмы.
Типичным для портретных интервью является употребление в них просторечных слов и выражений, относящихся, как известно, к разговорному «народному» пласту русского языка.
Так, в числе регулярно используемых средств выражения модально-оценочного значения достоверности находятся разговорные производные наречия серьезно: «Все по-серьезке» («вДудь» 2018. 21 авг.); «Я говорил на полном серьезе, что: «Я ж не могу! Я же сердце свое отдаю, я же душу рву, я же честный до конца» («вДудь» 2018. 27 февр.); «Это было на полном серьезе, но это была шутка» («вДудь» 2017. 1 авг.). Отдельно стоит отметить разговорные производные наречия честно при попытках интервьюера вызвать интервьюируемого на полную откровенность. Ср.: «Вот если совсем по-честному, у вас хотя бы раз мелькнула мысль, что в следующий раз могут прийти за вами?» («вДудь», 2017, 6 окт.); «Вот теперь по-чесноку. Смотри. Сейчас то, что ты с иронией об этом говоришь, это понятно, логично и в этом нет удивления» («вДудь», 2020, 3 мар.).
Посредством просторечных слов и выражений в портретном интервью эксплицируются реакции одобре-ния/неодобрения. Так, позитивная оценка в языке портретного интервью зачастую реализуется при помощи широко известных разговорных прилагательных клевый, крутой, классный и производных от них лексем. Ср.: «Я очень клевый чувак, у меня должны быть какие-то недостатки» («вДудь» 2018. 27 февр.); «Четыре года назад у меня была цель выучиться делать крутой маник (маникюр. - А.С.)» («вДудь» 2018. 21 авг.); «Важно, чтобы ты заполнил форму. И чем более она странная, тем круче спектакль» («Наедине со всеми» 2015, 11 авг.); «Замечательно, классно, но зачем вы дописывали Достоевского?» («Познер» 2020, 3 февр.). При этом вышеупомянутые лексемы встречаются как в интернет-интервью Ю. Дудя, так и в серьезных программах В. В. Познера, что, на наш взгляд, является показателем обыденности их употребления и, возможно, начального процесса перехода данных лексем из сферы разговорной речи в литературный язык.
Примечательно, что наряду с положительными оценками в портретных интервью широко и разнообразно представлены негативные оценочные суждения, выраженные лексемами, относящимися исключительно к устному разговорному языку: «Моя актерская игра очень хреновая, поэтому когда коллеги разыгрывают какие-то сценки, это не работает, потому что я худший актер на свете» («вДудь», 2020, 3 мар.); «Я высказал свое фи по поводу того, что это (татуировка. – А.С.) какая-то клюква, полная фигня, и к России это не имеет никакого отношения» («вДудь» 2018. 27 апр.); «Вот когда мужик жадный, это уже не мужик, это жалкое подобие» («Наедине со всеми» 2015, 3 мар.); «Какой нормальный мужик будет заниматься тем, чем я занимаюсь? Это изначально бабские мозги, абсолютно» (Там же); «Разгильдяй был еще тот» («Наедине со всеми» 2017, 2 февр.); «Видите, я тоже немножко сдвинут на этом, поэтому сложно со мной. <...> Кто-то может сказать, что я зануда, ну нет, ну просто такой я» («Наедине со всеми» 2015, 3 нояб.).
Интерес представляют случаи специфического использования в текстах портретных интервью лексики, заимствованной из западноевропейских языков. Так, с целью убедить собеседника в правдивости своих слов, то есть выразить модальнооценочное значение достоверности высказывания, герои интервью прибегают к использованию наречия реально в его просторечном, сугубо разговорном значении, происходящем от английского really «действительно, абсолютно верно, точно»: «И реально не было бабла вообще» («вДудь» 2018. 21 авг.); «Ну это (передача «Песня года». – А.С.) же реально праздник музыкальной некрофилии» («вДудь» 2018. 27 февр.); «То есть реально у вас такая легкая атлетика происходила постоянно?» («вДудь» 2018. 27 апр.); «Я реально думал, что я ее сейчас задушу. Вот реально» («Наедине со всеми» 2014. 26 февр.). Интересно, что даже известный российский режиссер Андрей Кончаловский, человек в высшей степени интеллигентный и образованный, в своем интервью В. В. Познеру использует эту лексему в речи: «И, конечно в этом смысле, поскольку это наследие для итальянцев откопать, отрыть, а там реально отрыли эти скульптуры» («Познер», 2019. 25 ноябр.). На основании приведенных и подобных примеров можно, на наш взгляд, говорить об ассимиляции разговорного варианта лексемы реально в литературном языке.
Примечательно, что распространенным средством экспликации максимально положительной оценки в речи героев портретных интервью является формант греколатинского происхождения супер-. «Стремление к максимальной интенсификации положительной оценки, — отмечает Т.М. Шкапенко, – находит свое выражение в новом процессе – прагматизации формантов, служащих ранее средствами словообразования в научном и публицистическом дискурсе, а также в тенденции к их частеречной автономизации. Наивысшая степень частеречной автономизации характерна для форманта супер-, функционирующего в речи носителей современного русского языка как междометие или наречие» [8, с. 33]. Ср.: «Ты суперзвезда интернета, но всегда мечтала попасть на телевидение» («вДудь» 2018. 21 авг.); «Что с этими отношениями стало, когда вы стали суперзвездой?» («вДудь» 2018. 18 сент.); «Сербам показалось, что хорошо бы иметь такого гражданина. Пришли и помогли мне, за что я им супер благодарен, потому что в Китай не нужна виза, в Японию не нужна виза» («Познер», 2019, 7 окт.); «Я в жизни не слышала, чтобы она сказала: «Ну я спела супер»» («Наедине со всеми», 2014. 26 мая). Приведенные выше и подобные примеры свидетельствуют о широком распространении и «вживании» форманта супер- в языковую практику носителей языка.
Говоря о влиянии процесса демократизации на русский литературный язык и его отражении в публицистическом дискурсе, в частности, в портретных интервью, особо следует отметить случаи использования оценочной лексики, пришедшей из уголовного жаргона. Наиболее активно элементы воровского жаргона осваивались рядовыми носителями языка на рубеже XX–XXI вв. Л.П. Крысин связывает это с тем, что отход в области социальной жизни от канонов и норм тоталитарного государства, провозглашение свободы как в общественно-политической и экономической сфере, так и в человеческих отношениях сказываются, в частности, на оценках некоторых языковых фактов и процессов: то, что раньше считалось принадлежностью социально непрестижной среды (преступной, мафиозной, просто малокультурной), начинает приобретать права гражданства наряду с традиционными средствами литературного языка [9, с. 64]. Данная лексика, утратив свое первоначальное значение, ассимилировалась в молодежной субкультуре и уже стала неотъемлемой частью молодежного сленга. Ср.: «Он отказался, потому что это попса га/о/лимая» («вДудь» 2018. 21 авг.). Как полагает Н.И. Киреев, лексема голимый бытовала в севернорусском говоре в значении «настоящий, подлинный, истинный, чистый», откуда попала в уголовное арго с сохранением значения, а оттуда – в речь молодежи, приобретя по неизвестной причине негативную коннотацию [10, с. 148-158]. В вышеприведенном примере лексема голимый уже является лексической единицей молодежного сленга со значением «плохой, некачественный, немодный».
Далее в одном из интервью находим еще одну интересную экспликацию отрицательной оценки: «Это нескучно, это не какой-нибудь зашкварный проект («вДудь» 2018. 21 авг.). Лексема зашквар-ный пришла в молодежный сленг из уголовного жаргона, где обозначала «оскверненный, опозоренный», от «шкварка – женщина легкого поведения» [11, c. 289]). В молодежном сленге негативное значение данного слова сохранилось, но был утрачен его первоначальный, довольно узкий и крайне отрицательный смысл, и в приведенном нами примере «зашкварный про- ект» – это просто проект очень плохого качества исполнения.
Приведем еще один показательный пример: «Я в отношениях с Лерой перестал быть мальчиком и по факту стал уже таким мужчиной. <...> Она красивая, она известная, и, в общем-то, в какой-то степени действительно мне надо было не облажать» («Наедине со всеми», 2015, 3 но-яб.). Использованная известным певцом С. Лазаревым лексема облажать также заимствована из уголовного жаргона и происходит от глагола лажать, имеющего словарные значения «1. Лгать, обманывать 2. Фальшивить (при игре на музыкальном инструменте)» [11, с. 124]. В данной конкретной реплике под выражением «не облажать» подразумевается «не допустить ошибок, не испортить отношения». Таким образом, можно с сожалением констатировать, что лексические единицы, ранее свойственные только уголовному жаргону и имеющие в нем свои особые для данного контингента значения, довольно широко распространились в речи носителей языка и уже не воспринимаются как нарушение языковой нормы.
Подводя некоторые итоги проведенного исследования, следует отметить, что специфика отбора языковых средств и степень демократизации языка в портретном интервью во многом определяется ориентацией на целевую аудиторию программы, то есть на возраст, уровень образования и ценностные ориентации массового адресата. Закономерно, что больше всего отход от нормы литературного языка наблюдается в текстах интервью, доступных только на интернет-каналах как ориентированных на молодежную аудиторию. В то же время элементы разговорной «простонародной» речи в целом ряде случаев проникают и в тексты портретных интервью на федеральных каналах, что, с одной стороны, «оживляет» диалог между интервьюером и интервьюируемым, насыщает его эмоциональностью, раскрывает новые грани героев телепередач, а с другой стороны, особенно в случаях злоупотребления жаргонизмами и англоамериканизмами снижает уровень речевой культуры носителей языка. Очень точно этот процесс описывает
О.Б. Сиротинина: «Сначала что-то появляется в повседневной речи и, если подхватывается СМИ, из них потом по разным причинам может исчезнуть (повышение речевой культуры журналистов, изменения в законодательстве), но может за время моды в СМИ получить в сознании массо- вого адресата подтверждение дозволенности, а в результате, исчезнув из СМИ, эта неправильность распространяется в массах, снова попадает в СМИ и образуется замкнутый круг» [12, c. 19]. Причины дан- ного явления кроются, на наш взгляд, в стремлении журналиста достичь комуни-кативно-прагматической цели, используя при этом наиболее действенные способы влияния на аудиторию. Стилистически сниженная лексика, во-первых, является весьма универсальным, доступным для массового адресата средством экспликации собственно модальных и немодальных оценок. Во-вторых, за счет использования разговорных элементов в речи достигается эффект восприятия журналиста и героев интервью «как своих», то есть разрушается коммуникативный барьер, достигается иллюзия непринужденности, доверительности общения. В-третьих, интервьюер, целенаправленно нарушая нормы литера- турного языка, инициирует ответные эмоционально-экспрессивные реакции интер- вьюируемых и посредством этого раскрывает новые грани характера героев, а также удерживает фокус внимания зрителя на происходящем диалоге.
Очевидно, что последствия столь активного процесса демократизации русского литературного языка являются не только важным предметом специальных лингвистических исследований, но и основанием для определенного беспокойства лингвистов, преподавателей гуманитарных дисциплин, а также носителей языка с высоким уровнем языковой компетенции.
Список литературы "Демократические" единицы современного русского языка как экспликаторы субъективной модальности в портретном интервью
- Новиков Л.А. Семантика русского языка. - М.: Высшая школа. - 272 с.
- Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. - М.: Логос, 2003. - 304 с.
- Клушина Н. И. Коммуникативная стилистика публицистического текста // Мир русского слова. - 2008. - №4. - С. 67-70.
- Ваулина С. С. Оценочность и модальность: специфика межкатегориальных отношений // Оценки и ценности в современном научном познании: сб. науч. тр. В 2 ч. Ч. 2. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. - С. 3-10.
- Наедине со всеми: телепрограмма // Официальный сайт Первого канала. - [Электронный ресурс]. - Режим досутпа: https://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski (дата обращения: 20.04.2020).