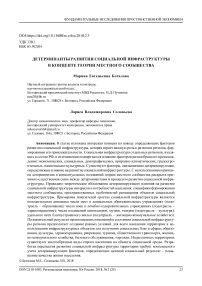Детерминанты развития социальной инфраструктуры в концепте теории местного сообщества
Автор: Боталова Марина Евгеньевна, Соловьева Лариса Владимировна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 2 (20), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье изложена авторская позиция по поводу определяющих факторов развития социальной инфраструктуры, которая играет важную роль в развитии региона, формировании его привлекательности. Социальная инфраструктура отдельных регионов, входящих в состав РФ, и ее изменения подвергаются влиянию факторов разнообразного происхождения: экономических, социальных, демографических, природно-климатических, градостроительных, национально-культурных. Существуют факторы, оказывающие детерминирующее, определяющее влияние на развитие социальной инфраструктуры. С использованием принципа детерминизма и концептуальных положений теории местного сообщества раскрыта причинно-следственная связь между детерминантами и процессом развития социальной инфраструктуры. Приведено теоретическое обоснование детерминирующего влияния на развитие социальной инфраструктуры интересов и потребностей населения; специфики формирования местного сообщества; пространственных особенностей размещения объектов социальной инфраструктуры...
Социальная инфраструктура, регион, принцип детерминизма, детерминанты развития, местное сообщество, концепт, качество жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/149131246
IDR: 149131246 | УДК: 338.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.2.3
Текст научной статьи Детерминанты развития социальной инфраструктуры в концепте теории местного сообщества
DOI:
Признаком любого социально-экономического процесса, сопровождающего жизнедеятельность человека, является постоянная подверженность влиянию различных факторов. Их исследование является необходимой исходной предпосылкой для определения перспектив развития. Социальная инфраструктура региона как самостоятельный феномен, ее изменения и неизбежное движение процесса развития не представляют исключения из правил эволюции. Она постоянно подвергается влиянию факторов различного происхождения: экономических, социальных, демографических, природно-климатических, градостроительных, национально-культурных и многих других.
Со временем научный интерес к исследованию факторов влияния на социальную инфраструктуру не ослабевает. Разработкой этой проблемы занимались многие отечественные ученые [1; 9; 19; 25]. Доминирующим аспектом исследования проблемы выступает установление и обоснование зависимости социального развития общества [7; 10], качества жизни населения [11; 15; 20] от инфраструктурных условий жизнеобеспечения [5; 22; 23; 24]. Доказано, что социальная инфраструктура играет важную роль в развитии региона, формировании его привлекательности как территории жизнеобитания человека и его участия в экономических отношениях [4; 8; 17]. По аналогии с региональной экономикой, характеризующейся неравномерностью поступательных темпов, развитие социальной инфраструктуры в пространственном аспекте также дифференцированно, что принято объяснять спецификой местных условий и различной степенью проявления факторов, влияющих на процесс ее развития.
Отличие авторского подхода к исследованию детерминант развития социальной инфраструктуры раскрывается в следующих тезисах. Среди множества факторов воздействия на состояние и динамику данного процесса существует особая их категория, оказывающая детерминирующее, определяющее влияние на развитие социальной инфраструктуры, которую можно унифицировать, несмотря на объективно существующие региональные различия.
Доказательством этого положения должно являться использование принципа детерминизма в исследовании концептуальных положений тео- рии местного сообщества для познания природы развития социальной инфраструктуры, осуществляемой под влиянием традиционных детерминант для каждого административно-территориального образования.
Объектом исследования обозначена социальная инфраструктура как системное образование, которое обеспечивает развитие социальной сферы и состоит из комплекса взаимосвязанных «подотраслей», создающих условия для повышения качества жизни населения. Методологической основой исследования выступают законы диалектики, принципы причинно-следственной связи, детерминизма, теория местного сообщества. Исследование основано на общенаучных методах познания природы изучаемого явления, методах установления зависимости его количественных и качественных изменений от влияния детерминант, методах абстрактного мышления и логических умозаключений, научной обоснованности выводов.
По причине наличия множества факторов влияния на развитие социальной инфраструктуры и отсутствия реальной возможности охвата исследованием их полного состава в данной работе мы остановимся на аргументации тех из них, которые имеют детерминирующее значение для изучаемого процесса. Это позволит реализовать в исследовании принцип детерминизма по одному из вариантов определения его содержания, трактуемого как «свойственное научному миропониманию признание всеобщей объективной закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и общества, отражаемой в законах науки; в частности, признание закономерности человеческой воли и человеческого поведения» [2, с. 204].
Такое понимание принципа детерминизма прямо указывает на объективный характер причинной взаимозависимости явлений природы и общества, что отражает причинно-следственную связь детерминант (факторов, определяющих явление) и явления (в нашем исследовании – социальной инфраструктуры региона). Ценным для исследования является содержащееся в приведенной цитате указание на закономерность человеческой воли и поведения, что в аспекте воли человека отражает его роль как субъекта развития социальной инфраструктуры, а в аспекте по- ведения человека – его активную деятельность в данном процессе. Еще один аспект познания экономических детерминант развития социальной инфраструктуры региона в части терминологии исследования связан с пониманием сути развития, включающего три последовательно взаимосвязанных характеристики состояния процесса: «изменение», «рост», «улучшение».
Специфика объекта изучения требует понимания развития социальной инфраструктуры региона с позиций социального результата – повышения качества жизни населения. Но социальный результат, как известно, не может быть обеспечен без должного экономического базиса. Поэтому характеристику «изменение» как первичную ступень процесса развития принято рассматривать во взаимосвязи его экономической и социальной составляющих.
Существует мнение, что наиболее типичными изменениями, характеризующими процесс развития, следует считать модификацию факторов производства и сдвиги в структуре экономики, качественное использование существующих ресурсов, изменение ценностных ориентаций и отношений членов местного сообщества [18, с. 11] – группы людей, совместно проживающих на ограниченной территории, в силу этого связанных общими интересами и относительно постоянным общением друг с другом [18, с. 8].
Вторая составляющая характеристика процесса развития – «рост», который, как правило, связывается с количественными результатами процесса. Показатели результата применительно к развитию социальной инфраструктуры региона характеризуются широким разнообразием, обусловленным ее объектным составом [3].
Частными примерами показателей «роста» социальной инфраструктуры является положительная динамика числа мест в дошкольных образовательных учреждениях (подотрасль – образование); числа коек в лечебно-оздоровительных учреждениях (подотрасль – здравоохранение); числа посещений кинотеатров, музеев, театров (подотрасль – культура); удельного веса благоустроенного жилья (подотрасль – жилищно-коммунальное хозяйство) и др.
Уместно отметить, что не все показатели «роста» социальной инфраструктуры по своему экономическому смыслу являются стимулянтами, стремящимися к росту. К индикаторам измерения «роста» социальной инфраструктуры также относятся показатели-дестимулянты, стремящиеся к снижению.
Рассмотрим проявление показателей-стимулянтов и дестимулянтов на примере подотрасли социальной инфраструктуры «здравоохранение», являющейся одной из важнейших при характеристике не только «роста» социальной инфраструктуры региона, но и во многом определяющей целевой социальный результат государства – повышение качества жизни населения.
Инфраструктурное обеспечение потребностей населения в медицинском обслуживании в РФ в динамике характеризуется скорее негативными, нежели позитивными тенденциями, обусловленными происходящей «оптимизацией» объектов здравоохранения, их укрупнением и «перемещением» многих медицинских услуг от больничных организаций (стационаров) к амбулаторно-поликлиническим учреждениям.
Доказательством сделанного нами вывода является сокращение числа больничных организаций за 2010–2016 гг. на 14,29 %, больничных коек – на 10,62 %, учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых – на 13,42 %, учреждений для инвалидов-детей – на 1,4 % (см. табл. 1). В то же время число амбулаторно-поликлинических организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций) за данный период возросло на 121,66 %, а их мощность – на 106,21 %.
На фоне общего сокращения числа больничных и амбулаторно-поликлинических организаций обращает на себя внимание существенный рост числа организаций негосударственной формы собственности, составивший в 2016 г. соответственно 150,00 и 140,63 % – к 2010 году. По нашему мнению, это является наглядным подтверждением происходящей коммерциализации сферы здравоохранения и изменения субъектного состава инфраструктуры медицинских услуг.
При анализе обеспеченности населения инфраструктурой здравоохранения в отдельных регионах Центрального федерального округа (Белгородской, Воронежской и Курской областях), как и по РФ в целом, наблюдаются тенденции отсутствия роста числа больничных организаций (см. табл. 2).
Так, за 2010–2016 гг. в Белгородской и Воронежской областях произошло их сокращение, а в Курской области число больничных организаций не изменилось. Что касается количества больничных коек, то оно снизилось во всех областях: в Белгородской – на 9,6 %, в Воронежской – на 7,98 %, в Курской – на 9,43 %.
Таблица 1
Динамика показателей, характеризующих инфраструктуру платных медицинских и социальных услуг, в целом по России за 2010–2016 гг.
|
Показатели |
Годы |
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 к 2010, % |
|
|
Число больничных организаций, всего, тыс. |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
5,9 |
5,6 |
5,4 |
5,4 |
85,71 |
|
В том числе: негосударственные |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
150,00 |
|
Число больничных коек, всего, тыс. |
1 339,5 |
1 347,1 |
1 332,3 |
1 301,9 |
1 266,8 |
1 222,0 |
1 197,2 |
89,38 |
|
В том числе: негосударственные организации |
21,7 |
20,6 |
22,6 |
23,2 |
24,9 |
24,1 |
23,5 |
108,29 |
|
Число амбулаторно-поликлинических организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), всего, тыс. |
15,7 |
16,3 |
16,5 |
16,5 |
17,1 |
18,6 |
19,1 |
121,66 |
|
В том числе: негосударственные |
3,2 |
3,4 |
3,7 |
3,9 |
4,3 |
4,1 |
4,5 |
140,63 |
|
Мощности амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену, всего, тыс. |
3 685,4 |
3 727,7 |
3 780,4 |
3 799,4 |
3 858,5 |
3 861,0 |
3 914,2 |
106,21 |
|
В том числе: негосударственные организации |
226,6 |
246,0 |
270,7 |
283,5 |
319,1 |
316,6 |
358,3 |
158,12 |
|
Число учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых |
1 475 |
1 417 |
1 406 |
1 411 |
1 354 |
1 293 |
1 277 |
86,58 |
|
в них: тыс. мест |
249 |
249 |
251 |
251 |
252 |
254 |
257 |
103,21 |
|
проживающих, тыс. человек |
245 |
245 |
247 |
247 |
248 |
250 |
253 |
103,27 |
|
Число учреждений для инвалидов-детей |
143 |
134 |
132 |
134 |
133 |
144 |
141 |
98,60 |
|
в них: тыс. мест |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
23 |
22 |
81,48 |
|
проживающих, тыс. человек |
24 |
23 |
22 |
22 |
21 |
20 |
23 |
95,83 |
Примечание. Составлено по: [21].
Таблица 2
Динамика показателей обеспеченности населения инфраструктурой здравоохранения в Белгородском, Воронежском, Курском регионах Центрального федерального округа за 2010–2016 гг.
|
Субъекты Федерации |
Годы |
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 к 2010, % |
|
|
Число больничных организаций, ед. |
||||||||
|
Белгородская область |
56 |
54 |
53 |
53 |
53 |
52 |
50 |
89,29 |
|
Воронежская область |
80 |
85 |
88 |
83 |
77 |
76 |
78 |
97,50 |
|
Курская область |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
100,00 |
|
Число больничных коек, всего, тыс. ед. |
||||||||
|
Белгородская область |
12,5 |
12,3 |
12,5 |
12,4 |
12,5 |
12,0 |
11,3 |
90,40 |
|
Воронежская область |
21,3 |
21,9 |
21,7 |
21,4 |
21,4 |
20,0 |
19,6 |
92,02 |
|
Курская область |
10,6 |
10,2 |
10,1 |
9,8 |
9,7 |
9,6 |
9,6 |
90,57 |
|
На 10 000 чел. на селения, ед. |
||||||||
|
Белгородская область |
81,4 |
80,3 |
80,9 |
80,3 |
80,4 |
77,1 |
72,7 |
89,31 |
|
Воронежская область |
91,1 |
94,0 |
93,2 |
91,9 |
91,9 |
85,7 |
84,1 |
92,32 |
|
Курская область |
94,0 |
91,1 |
90,0 |
87,8 |
86,8 |
85,4 |
85,1 |
90,53 |
|
Число амбулаторно-поликлинических организаций, ед. |
||||||||
|
Белгородская область |
219 |
229 |
232 |
235 |
157 |
157 |
160 |
73,06 |
|
Воронежская область |
176 |
184 |
229 |
403 |
420 |
389 |
395 |
224,43 |
|
Курская область |
103 |
106 |
110 |
107 |
86 |
93 |
89 |
86,41 |
|
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену, тыс. ед. |
||||||||
|
Белгородская область |
35,6 |
36,8 |
39,7 |
40,0 |
37,6 |
37,5 |
37,5 |
105,34 |
|
Воронежская область |
56,3 |
59,1 |
56,2 |
55,8 |
56,0 |
56,3 |
57,9 |
102,84 |
|
Курская область |
27,2 |
27,5 |
27,5 |
28,0 |
27,7 |
28,2 |
28,5 |
104,78 |
|
На 10 000 чел. населения, посещений в смену |
||||||||
|
Белгородская область |
232,4 |
239,5 |
257,4 |
259,3 |
242,6 |
241,7 |
241,4 |
103,87 |
|
Воронежская область |
241,3 |
253,6 |
241,2 |
239,4 |
240,1 |
241,4 |
247,8 |
102,69 |
|
Курская область |
241,4 |
244,8 |
245,5 |
250,1 |
247,6 |
252,1 |
253,7 |
105,10 |
Примечание. Составлено по: [12; 13; 16].
Число амбулаторно-поликлинических организаций за анализируемый период менялось неравномерно: в Белгородской области уменьшилось (на 26,94 %), как и в Курской (на 13,59 %), а в Воронежской – возросло более чем в 2 раза. При этом наблюдаются положительные тенденции в росте мощности амбулаторно-поликлинических организаций (посещений человек в смену) во всех сравниваемых областях к 2010 г.: в Белгородской – 105,34 %, Воронежской – 102,84 %, Курской – 104,78 %.
Таким образом, «рост» социальной инфраструктуры необходимо понимать с позиций результативности произошедших в ее состоянии изменений в обоих направлениях количественного измерения результата.
В отличие от «роста», третья характеристика процесса развития – «улучшение» – отражает качественные параметры изменения социальной инфраструктуры региона. По сути, «улучшение» показывает результат произошедших изменений состояния социальной инфраструктуры – создание равных условий для всего населения территории (региона) в использовании инфраструктурных объектов для получения социальных благ в сферах образования, культуры, здравоохранения, рекреации, туризма, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, торговли и др.
Перечисленные, а также другие сферы предоставления населению социальных благ отражают объектную компоненту социальной инфраструктуры, призванную создавать условия для повышения качества жизни населения, то есть обеспечивать получение социального результата процесса развития социальной инфраструктуры. Уточненные терминологические аспекты понимания сущности процесса развития социальной инфраструктуры региона позволяют нам перейти к аргументации влияющих на него детерминант. Главное положение в ряду обозначенных детерминант занимают интересы и потребности населения.
В укрупненном виде потребности и интересы населения принято обобщать в три группы по сферам их удовлетворения (реализации): занятость – рынок труда; доходы – экономика; благоустройство социальной среды – условия жизни. В доминанте потребности и интересы наблюдается спад по таким группам, как занятость и доходы из-за существующих проблем на рынке труда и снижения общего уровня экономики. Однако совершенствуется благоустройство соци- альной среды обитания через развитие условий жизни. На первый взгляд, потребности и интересы населения в занятости и доходах имеют опосредованное отношение к развитию социальной инфраструктуры. Однако если учитывать, что функционирование каждого объекта социальной инфраструктуры требует участия «живого» труда, а следовательно обеспечения трудовыми ресурсами, то связь занятости и социальной инфраструктуры трансформируется из опосредованной в прямую. Что касается взаимосвязи потребностей в доходах и благоустройстве социальной среды, то в данном случае эта взаимосвязь имеет дуальный характер.
С одной стороны, доходы населения в расширенном понимании источников их формирования (не только от занятости в формальном секторе экономики, но и от ведения личных подсобных хозяйств, использования недвижимого имущества, процентных выплат на размещенные в банковских структурах сбережения и др.) являются финансовой основой для потребительских расходов на цели образования, здравоохранения, культуры, досуга и т. д. Это означает, что население через расходование собственных средств на обозначенные цели выступает специфическим «инвестором» развития объектов социальной инфраструктуры.
С другой стороны, если местные объекты социальной инфраструктуры для населения по каким-либо причинам будут непривлекательными, очевидно, что удовлетворение потребностей будет происходить за пределами территории постоянного проживания. Наглядным примером является внутренняя (в пределах страны) и внешняя (за ее пределами) миграция населения в целях получения образования, оздоровления (особенно по высокотехнологичной медицинской помощи), рекреации (отдыха, туризма). Не требует доказательств положение о том, что если местная социальная инфраструктура позволяет качественно удовлетворять потребности населения, то внутренние и внешние миграционные потоки, связанные с получением услуг социального характера, сокращаются.
Объяснение связи местных условий, интересов и потребностей населения территории дает теория местного сообщества, раскрывающая присущие ему отличительные признаки формирования, – это мы определяем вторым детерминантом развития социальной инфраструктуры. Полагаем, что основными признаками следует считать: культурную, этническую, историческую общность людей, то есть население; пространство в пределах географических, экономических, административных границ, то есть территорию; отношения людей, общественные правила и нормы поведения, контакты с органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами, уровень развития институтов гражданского общества, то есть социальное взаимодействие; единство общественных ценностей, принадлежность к местному социуму, ответственность перед местным сообществом, влияние общественного мнения на поведение человека, то есть психологическую идентификацию человека в местном сообществе.
Понимание специфики формирования местного сообщества важно с позиций конкретизации субъекта использования социально-инфраструктурных объектов. В этой связи заслуживает особого внимания точка зрения О.М. Роя, предлагающего условные виды населения территориального образования по критерию уровней управления: государственного – «народ»; регионального – «общество»; муниципального – «общность». «В основу разделения на виды, – считает автор, – положен критерий внутреннего соответствия интересов людей, входящих в ту или иную группу в зависимости от ее величины и количества условных и безусловных границ между ними. Общность выражает высокую степень этого соответствия, и поэтому именно здесь возможна форма самоуправления населения, подкрепленная незначительным масштабом территории, занимаемой муниципалитетом» [14, с. 147].
Если исходить из потенциала населения муниципального образования, то есть местного сообщества, в части возможностей воздействия на развитие объектов социальной инфраструктуры, тогда с таким разделением населения на виды можно согласиться. Обоснованием этому служит то, что «общность» невозможно рассматривать в отрыве от среды ее существования – уникального сочетания элементов окружения, взаимодействуя с которыми люди обеспечивают собственное воспроизводство, используют местные природные ресурсы, формируют социальную структуру в соответствии с экономической ситуацией, существующей в зоне взаимодействия. Формирование местного сообщества невозможно в отрыве от пространственных факторов, оказывающих влияние на укрепление или разрыв совместных интересов населения территории [6].
Названное выше дает основание для выделения третьего детерминанта – пространственных особенностей размещения объектов социальной инфраструктуры, определяемых сложившимися традициями расселения населения. Среди этих особенностей в первую очередь следует выделить масштаб территории в границах административно-территориального образования, определяющий дислокацию объектов социальной инфраструктуры и «проблемность» доступа населения к ним. Очевидно, что для населения, к примеру, Центрального федерального округа доступ к объектам социальной инфраструктуры намного проще, чем для населения Сибирского или Дальневосточного федеральных округов, из-за плотности размещения инфраструктурных объектов, уровня развития транспортного сообщения, удаленности объектов от места постоянного проживания человека и др.
Важное значение для размещения объектов социальной инфраструктуры в рекреационной «подотрасли» имеют ее природные условия: ландшафт, климат, флора, фауна. Особо следует подчеркнуть, что при удовлетворении потребностей населения в рекреационных услугах нивелируется влияние фактора удаленности инфраструктурных объектов. Объясняется это уникальностью природной среды, пребывание в которой, даже кратковременное, для человека оказывается важнее, нежели территориальная близость рекреационных объектов. Доказательством этого утверждения является устойчивое развитие сферы туризма.
К пространственным особенностям размещения объектов социальной инфраструктуры также относим исторические традиции расселения населения по этническому признаку, что особенно ярко проявляется в национальных республиках. К примеру, компактность расселения народностей Северо-Кавказского федерального округа, их поликонфессиональность должны учитываться при размещении объектов религиозного культа, охране объектов национально-культурного наследия, исторических памятников, особо значимых для коренного населения территорий.
В обоснование четвертого выделяемого нами детерминанта развития социальной инфраструктуры – типа территории в терминологии спроса населения на объекты социальной среды, обеспечивающие привлекательность территории для жизнеобитания человека, – обратимся к социально-экологической типизации территорий. По О.М. Рою, социально-экологический тип территории – показатель миграционной привлекатель- ности территории, определяющий процессы промышленной и сельскохозяйственной освоенности территории, ее населенности и застроенности [14, с. 148–149].
Базовой категорией для типизации территорий определяется категория «способность» с точки зрения освоенности и благоустройства территории, способности удовлетворять потребности и ожидания людей. В соответствии с этим территории разделяются на три типа:
– по поглощающей способности – опирается на существующую структуру занятости, притягивает население других территорий без изменения собственных границ и внутритерриториаль-ной функциональной структуры;
– генерирующей способности – предоставляет населению новые возможности реализации предпринимательской или трудовой активности в территориях за пределами места постоянного проживания (например, в центрах агломераций, «притягивающих» население прилегающих к центрам территорий);
– отталкивающей способности – определяет отрицательную направленность миграционных потоков в сторону «выхода» населения за пределы территории постоянного проживания [14].
Для нашего исследования типизация территорий ценна тем, что она объясняет различие видов спроса населения на объекты социальной среды, обеспечивающие привлекательность территории для потенциальной миграции через потребности людей в жилье, труде, социально-бытовой инфраструктуре, экологических условиях среды, досуге. Все эти виды потребностей имеют непосредственное отношение к социальной инфраструктуре как таковой, а следовательно тип территории, на наш взгляд, можно признать в качестве самостоятельного детерминанта развития социальной инфраструктуры, формируемого фактором спроса населения на ее объекты.
Таким образом, можно заключить, что разработка перспектив развития социальной инфраструктуры территории требует комплексного учета детерминирующих факторов, определяющих как стадию развития, так и его содержание, адекватное целевому социальному результату – повышению качества жизни населения. Достижение этого результата, в концепте положений теории местного сообщества, обусловливается признанием влияния на развитие социальной инфраструктуры особых детерминантов: интересов и потребностей населения; специфики формирования местного сообщества, отражаемой прису- щими ему признаками; пространственных особенностей размещения объектов социальной инфраструктуры, определяемых сложившимися традициями расселения населения; типа территории в терминологии спроса населения на объекты социальной среды, обеспечивающие привлекательность территории для жизнеобита-ния человека.
Приведенное в статье теоретическое обоснование влияния перечисленных детерминантов на развитие социальной инфраструктуры не претендует на безальтернативность. Для этого могут быть представлены и иные аргументы. Но сам факт значимости выделения детерминантов для познания катализаторов процесса развития социальной инфраструктуры, по нашему мнению, выступает объективной данностью. Доказательная база влияния выделенных детерминантов основана на анализе содержания работ исследователей, выполненных в данной предметной области, положения которых адаптированы к специфике предмета данного исследования.
Список литературы Детерминанты развития социальной инфраструктуры в концепте теории местного сообщества
- Антонюк, В. С. Социальная инфраструктура в системе региональной инфраструктуры/В. С. Антонюк, А. Ж. Буликеева//Вестник Тюменского государственного университета. -2013. -№ 11. -С. 31-39.
- Большой словарь иностранных слов. -М.: ЮНВЕС, 1998. -784 с.
- Боталова, М. Е. К развитию терминологии социальной инфраструктуры и определению ее объектного состава/М. Е. Боталова//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. -2017. -№ 5 (66). -С. 108-116.
- Букреев, С. А. Стратегирование структурных преобразований в экономике регионов России: новые тенденции и направления совершенствования/С. А. Букреев//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление. -2015. -№ 1. -С. 91-98.
- Бунеева, М. В. Оценка инфраструктурных условий жизнеобеспечения населения и тенденций их изменения/М. В. Бунеева//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. -2015. -№ 4 (56). -С. 433-439.
- Воронин, А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практики. -2-е изд., перераб. и доп./А. Г. Воронин. -М.: Финансы и статистика, 2004. -176 с.
- Гончарова, Л. Н. Развитие муниципальных услуг в сфере образования/Л. Н. Гончарова//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. -2014. -№ 1 (49). -С. 86-91.
- Иголкин, И. С. Оценка современной российской практики стратегирования структурных изменений в экономике регионов/И. С. Иголкин//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление. -2017. -№ 1. -С. 40-46.
- Николаева, М. Г. Региональная инфраструктура и качество жизни населения: межсистемное взаимодействие/М. Г. Николаева, Н. В. Мордовченков//Экономика региона. -2012. -№ 2. -С. 197-203.
- Овчинникова, О. П. Развитие региональных социально-экономических систем и финансовое обеспечение регионов в современных условиях/О. П. Овчинникова, Е. В. Никулина//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление. -2015. -№ 2. -С. 32-37.
- Рагозина, Л. Общественное участие в развитии и контроле качества социальных услуг: опыт России и зарубежных стран/Л. Рагозина//Журнал исследований социальной политики. -2015. -Т. 13 (1). -С. 97-108.
- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации//Каталог публикаций: Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138625359016. -Загл. с экрана.
- Регионы России. Социально-экономические показатели//Каталог публикаций: Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156. -Загл. с экрана.
- Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления/О. М. Рой. -СПб.: Питер, 2003. -301 с.
- Савинская, О. Б. Методический аудит независимой оценки качества в социальной сфере: возможности и ограничения/О. Б. Савинская, О. Н. Дудченко, А. В. Мытиль//Журнал исследований социальной политики. -2017. -Т. 15 (1). -С. 97-112.
- Социально-экономическое положение федеральных округов//Каталог публикаций: Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086420641. -Загл. с экрана.
- Трошихин, В. В. Экономические отношения и социальная структура общества/В. В. Трошихин, Л. П. Филенко, С. В. Горлова//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. -2017. -№ 3 (64). -С. 65-83.
- Филиппов, Ю. В. Теории местного экономического развития/Ю. В. Филиппов, Т. Т. Авдеева, Т. Г. Лаврова. -М.: КНОРУС, 2013. -102 с.
- Фролова, Е. В. Региональная дифференциация: роль социальной инфраструктуры/Е. В. Фролова//Россия и современный мир. -2012. -№ 4. -С. 49-61.
- Чижова, Е. Н. Взаимосвязь социального капитала, сферы услуг и качества жизни населения/Е. Н. Чижова//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. -2014. -№ 1 (49). -С. 131-142.
- Электронная версия сборника «Платное обслуживание населения в России»//Новостная лента: Федеральная служба государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/e5c6e1004e3717f1923fbbba5f1db840. -Загл. с экрана.