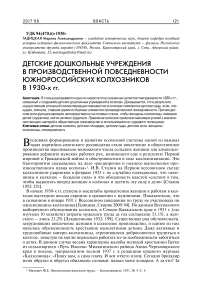Детские дошкольные учреждения в производственной повседневности южно-российских колхозников в 1930-х гг
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается один из недостаточно изученных аспектов повседневности 1930-х гг., связанный с созданием детских дошкольных учреждений в колхозах. Доказывается, что в результате осуществления сплошной коллективизации повсеместно в колхозах появляются детские сады, ясли, площадки, комнаты, ставшие одним из базовых элементов производственной повседневности. Причем детские ясли функционировали непосредственно на полевых станах, чтобы женщины-колхозницы, имевшие детей-грудничков, могли активно трудиться. Правления колхозов прилагали максимум усилий к вовлечению женщин-матерей в общественное производство и использованию их трудового потенциала.
Детские комнаты, детские площадки, детские сады, детские ясли, женщины-колхозницы, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/170168813
IDR: 170168813 | УДК: 94(470.6)"1930"
Текст научной статьи Детские дошкольные учреждения в производственной повседневности южно-российских колхозников в 1930-х гг
В условиях формирования и развития колхозной системы одной из важных задач партийно-советского руководства стало вовлечение в общественное производство максимально возможного числа сельских женщин для компенсирования дефицита мужских рабочих рук, возникшего еще в результате Первой мировой и Гражданской войны и обострившегося в ходе коллективизации. Это благоприятно сказывалось на деле «расширения и полного выполнения производственного плана колхоза»1. И.В. Сталин на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 г. не случайно подчеркивал, что «женщины в колхозах – большая сила» и что обязанность властей «состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в колхозах и пустить эту силу в дело» [Сталин 1952: 251].
В начале 1930-х гг. степень и масштабы привлечения женщин к работам в колхозах выглядели весьма скромно в сравнении с мужчинами. Показательно, что в созванном в январе 1931 г. Всесоюзном совещании по труду не участвовала ни одна женщина-колхозница [Гадицкая, Скорик 2009: 94]. По данным Всесоюзного выборочного обследования колхозов, в Северо-Кавказском крае в 1931 г. (где изучили 10 хозяйств) затраты мужского труда за год составляли 53,1%, а женского – лишь 21,2% [Лукашенкова 1932: 199]. Существовал ряд обстоятельств, затруднявших вовлечение женщин в колхозное производство, и одним из них являлась обремененность крестьянок малолетними детьми. Даже активные и трудолюбивые матери-колхозницы, стремившиеся добросовестно трудиться в колхозе, зачастую не могли нормально работать из-за необходимости заботиться о детях. В данном случае весьма характерны жалобы молодой крестьянки Бутко из сельхозартели «Путь Ильича» Милютинского района Азово-Черноморского края в письме, направленном весной 1937 г. в редакцию краевого журнала «Колхозница»: «Пишу вам, а сама плачу. И вот отчего плачу. Сегодня бригадир меня обругал и обругал обидными словами: назвал меня лодырем. А за что? За то, что я вышла на работу с опозданием. Но почему я опоздала? У меня дочка 3-х лет, Маша, вот я и бегала по хатам – просила соседок поглядеть мою девочку в то время, когда я буду на пахоте»1. Хорошо если какая-либо соседка могла приглядеть за ребенком, и дело ограничивалось лишь опозданием. Но нередко матери не на кого было оставить детей, и это сказывалось на ее отношении к работе. Причем труд для женщины-казачки на Юге России традиционно считался неотъемлемой чертой ее повседневности [Скорик, Озеров 2005: 23].
Эффективным средством привлечения колхозниц-матерей к общественному производству являлось создание в коллективных хозяйствах детских садов, яслей, площадок, комнат. Детские сады, как правило, представляли собой постоянные учреждения, действовавшие весь год. Детские ясли могли быть постоянными или сезонными. В последнем случае они организовывались только на период напряженных сельхозработ – с апреля по сентябрь–октябрь. Детские площадки существовали лишь сезонно, обычно весной–летом. На то же время формировались и детские комнаты, отличавшиеся от площадок меньшими размерами и дислокацией.
Создание детских дошкольных заведений (а также культурно-бытовых учреждений – общественных столовых, прачечных, бань) позволяло перераспределить трудовременные затраты женщин в пользу колхозов. Так, в январе–феврале 1931 г. Колхозцентр провел обследование ряда коллективных хозяйств СевероКавказского края, согласно которому в тех колхозах, где имелись культурнобытовые учреждения, использовалось 22,8% женского труда от общих затрат за год. Напротив, в колхозах, где подобные заведения отсутствовали или они не функционировали должным образом, применялось только 17,6% женского труда [Лукашенкова 1932: 205].
В начале 1930-х гг. множество колхозов из-за своего организационнохозяйственного состояния не могли содержать детские сады, ясли, площадки. Правления отдельных коллективных хозяйств, не имея возможности создать детские дошкольные учреждения, но в то же время стремясь привлечь к работе побольше колхозниц, шли на различные комбинации. Так, в ходе сельхозработ 1932 г. в немецком колхозе им. Э. Тельмана Матвеево-Курганского района СевероКавказского края «при прополке женщины были разбиты на две категории: одни группы из молодежи и бездетных женщин работали на дальних участках, другие из домохозяек и многодетных работали на участках [расположенных] ближе к селу»2. Эффект от таких ухищрений оказывался небольшим. Кардинальное укрепление трудовой дисциплины женщин-колхозниц могло последовать лишь после создания детских дошкольных учреждений.
Ситуация в сфере присмотра за детьми в колхозах обнаружила тенденцию к оптимизации ближе к середине 1930-х гг., по мере организационно-хозяйственного укрепления колхозной системы. По свидетельству первого секретаря СевероКавказского крайкома ВКП(б) Е.Г. Евдокимова, к июню 1934 г. наблюдалось «огромное развертывание ясельного дела», поскольку в крае открылись 273 постоянных яслей на 65 тыс. детей и 1 188 сезонных яслей на 40 тыс. детей3. В марте 1936 г. Азово-Черноморский крайком ВКП(б) решил утвердить сеть детских дошкольных учреждений с охватом детей «примерно на 10% больше против фактической сети и охвата в прошлом году»4.
Но и во второй половине 1930-х гг. на Юге России имелись коллективные хо- зяйства, в которых по тем или иным причинам детские дошкольные учреждения отсутствовали. Так, уже упомянутая Бутко весной 1937 г. объясняла в письме в редакцию журнала «Колхозница», почему она отдала свою дочку под присмотр соседки: ведь «детской площадки у нас нет. И сколько ни говорила нашим руководителям, чтобы была площадка, ответ один: да нет помещения, да нет воспитательниц»1. Вместе с тем теперь колхозы, не содержавшие детские ясли или хотя бы площадки, остались в меньшинстве: подавляющее большинство коллективных хозяйств Дона, Кубани и Ставрополья ими обзавелись. В частности, в 1940 г. в колхозах Ростовской области имелись 229 постоянных и 2 212 сезонных детских яслей, рассчитанных в общей сложности на 85,8 тыс. мест, а также 49 постоянных и 476 сезонных детских садов и площадок, которые могли принять около 17 тыс. детей2. Приведенные данные о наличии детских дошкольных учреждений в сельской местности Ростовской области получены нами при анализе сводных годовых отчетов 1 845 колхозов (из 1 881 колхозов в области на указанный год), т.е. каждое коллективное хозяйство располагало, как минимум, сезонными детскими яслями. Иначе говоря, проблему детской безнадзорности на время сельхозработ практически удалось решить, детские дошкольные учреждения превратились в важный фактор колхозного производства на Юге России.
Подавляющее большинство детских дошкольных учреждений, будь то сады, ясли или площадки, действовали в пределах сел и станиц Юга России. Но не столь уж редко детские ясли, площадки и комнаты устраивались непосредственно на полевых станах (таборах) – сезонных местах дислокации колхозных бригад, а они располагались посреди полей, на удалении от центральной усадьбы того или иного колхоза на многие километры. К примеру, правление коммуны «Социалистическое соревнование» Таганрогского района Донского округа Северо-Кавказского края летом 1930 г. распорядилось содержать детские ясли прямо на полевых массивах3. С наибольшей частотой упоминания о создании на полевых станах детских комнат встречаются в документации политических отделов МТС. По свидетельству сотрудников политотдела Канеловской МТС, летом 1933 г. в ряде полеводческих бригад создались «специальные помещения для детясель»4. На проходившем в июне 1934 г. Азово-Черноморском краевом совещании заместителей начальников политотделов МТС по женработе одна из его участниц по фамилии Диденко, представлявшая Приморско-Ахтарскую машинно-тракторную станцию, рассказывала присутствовавшим: «У нас во всех бригадах за исключением одного хутора довольно приличные таборы, имеются души, устроена баня, имеется детская комната»5.
Чем же обусловливалось устройство детских комнат на таборах, а не в селах или станицах, несмотря на сопряженные с этим неудобства для персонала, обслуживавшего эти учреждения? При различии объяснений все сводилось, в конечном счете, к единственной причине – стремлению колхозниц быть как можно ближе к детям, в чем начальство нередко женщин поддерживало. Удаляясь от детей, матери испытывали тревогу за них, даже если они и находились под присмотром в детских яслях. В ряде случаев такая тревога могла негативно повлиять на трудовую дисциплину. Так, в начале 1930-х гг. имели место случаи, когда колхозницы и вовсе срывали производственный процесс из-за неуверенности в хорошем уходе за их детьми в яслях, либо поверив разного рода провокационным утверждениям. К примеру, летом 1930 г. во время прополки хлопка и подсолнечника «кулацкие подпевалы Якименко и Облогина пустили контрреволюционный слух» среди колхозниц, будто в станице Тимашевской Кубанского округа Северо-Кавказского края некие злодеи уворовали 120 детей из яслей. Конечно, их матери, трудившиеся в поле, испугались, бросили работу и помчались в станицу, а прополка на некоторое время оказалась прервана1.
Кроме того, в рассматриваемый период времени матерям все равно приходилось самим кормить грудных детей, оставляемых в яслях. Хорошо если колхозницы работали недалеко от хутора, села, станицы, где располагались детясли. В этом случае им разрешалось делать перерывы в работе «через каждые 2–3 часа», чтобы навестить детей и покормить их [Бородин 1940: 47]. В колхозах практиковалась и доставка грудничков прямо на полевые станы, чтобы матери могли покормить детей и при этом оставаться на рабочем месте. Трудно судить о степени распространения в коллективизированной деревне такой практики, но с уверенностью можно утверждать о ее существовании на всем протяжении 1930-х гг. Так, в 1931 г. в сельхозартели им. Н.К. Крупской Тихорецкого района СевероКавказского края «в работу были втянуты многие женщины, кормящие ребят грудью». Когда приходило время кормления, детей везли к матерям на телеге: «Запрягает дед Щербаков пару лошадей в подводу», на которой на двух шестах прикреплен лозунг: «Нам нужна здоровая смена». Эту-то «“смену” из детяслей бережно укладывают на подводу, а, чтобы мухи и солнце не тревожили, покрыта подвода прохладным парусом, натянутым на основу»2. В конце 1933 г., по данным сотрудников политотдела Канеловской МТС Северо-Кавказского края, в колхозе им. К.Е. Ворошилова действовал передвижной «вагон-ясли с специальным оборудованием на 25 детей, полученный ими от нас в премию за успешное выполнение хозяйственных работ»3. В марте 1934 г. представители власти, колхозной администрации и сельского актива реорганизованного Северо-Кавказского края в качестве одной из задач грядущих сельхозкампаний называли «подвоз детей к матерям»4. В 1939 г. журнал «Колхозник» напечатал рассказ В. Ильенкова, где тот описывал, как повстречал на дороге колхозную телегу, доставлявшую дважды в день «через каждые четыре часа» к работающим на поле матерям их грудных детей5.
Однако возить грудничков к матерям получалось лишь в случае, если последние трудились относительно недалеко от села (станицы, хутора) с детяс-лями. Постоянно же давать работу группам колхозниц, обремененных грудными детьми, вблизи от тех или иных сельских населенных пунктов не представлялось возможным. Во время напряженных сельхозкампаний (сев, прополка, уборка урожая) колхозницы-матери находились и в составе полевых бригад, на многие километры удаленных от сел и станиц и, значит, от детских дошкольных учреждений. Порой женщины даже спали на платформе молотилки [Скорик 2009: 153]. Поэтому в 1930-х гг. детские ясли, площадки, комнаты функционировали не только в селах и станицах, но и на полевых станах колхозных полеводческих бригад Дона, Кубани, Ставрополья.
Таким образом, при современном переосмыслении «двойного прошлого» России, избегая «идеализации того или иного социокультурного стереотипа» [Скорик 2001: 258], одной из примет эпохи «великого перелома», круто изменившей жизненный уклад российской (в т.ч. южнороссийской) деревни, мы назы- ваем повсеместную организацию дошкольных учреждений для сельской детворы. Эти учреждения – детские сады, ясли, площадки, комнаты, – создавались колхозной администрацией под контролем партийно-советских органов с целью повышения трудовой дисциплины и производственной активности тех женщин-колхозниц, которые имели малолетних детей. Детские дошкольные учреждения в кратчайшие сроки стали важными факторами колхозного производства и одновременно превратились в новый, ранее не наблюдавшийся в деревне элемент трудового быта колхозников. Причем в производственной повседневности колхозных полеводческих бригад такие учреждения присутствовали непосредственно и зримо, поскольку нередко располагались прямо на полевых станах. И вряд ли знаменитая трактористка Канеловской МТС кубанская казачка Паша Ковардак лукавила, когда в декабре 1935 г. на совещании передовиков урожайности зерновых культур говорила: «Мы живем в стране веселой, в стране той, которая открыла для нас путь трудящимся женщинам и все удовольствия» [Скорик 2009: 370].
Список литературы Детские дошкольные учреждения в производственной повседневности южно-российских колхозников в 1930-х гг
- Бородин А. 1940. О правилах внутреннего распорядка в колхозах. -Социалистическое сельское хозяйство. № 1. С. 42-53
- Гадицкая М.А., Скорик А.П. 2009. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е годы: гендерный потенциал и менталитет. Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 324 с
- Лукашенкова Э.В. 1932. Роль женского труда в колхозном производстве. -Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. № 11-12. С. 198-205
- Скорик А.П. 2001. Проблемы экспериментов и ошибок в историческом процессе: дис.... д. филос.н. Ростов н/Д. 351 с
- Скорик А.П., Озеров А.А. 2005. Этносоциальный адрес донцов: научно-полемический дискурс. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ. 232 с
- Скорик А.П. 2009. Казачий Юг России в 1930-е годы: грани исторических судеб социальной общности. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 508 с
- Сталин И.В. 1952. Речь на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников. 19 февраля 1933 г. -Сочинения. Т. 13. М.: Госполитиздат. С. 236-256