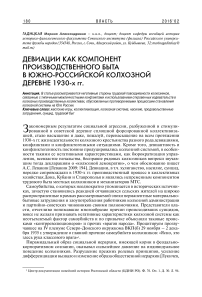Девиации как компонент производственного быта в южно-российской колхозной деревне 1930-х гг
Автор: Гадицкая Марина Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются негативные стороны трудовой повседневности колхозников, связанные с типичными межличностными конфликтами и использованием откровенных издевательств в колхозных производственных коллективах, обусловленных противоречивыми процессами становления колхозной системы на Юге России.
Жестокие игры, коллективизация, колхозная система, насилие, продовольственные затруднения, суицид, трудовой быт
Короткий адрес: https://sciup.org/170168290
IDR: 170168290
Текст научной статьи Девиации как компонент производственного быта в южно-российской колхозной деревне 1930-х гг
З акономерным результатом социальной агрессии, разбуженной и стимулированной в советской деревне сплошной форсированной коллективизацией, стало насыщение и даже, пожалуй, перенасыщение на всем протяжении 1930-х гг. жизнедеятельности колхозного крестьянства разного рода девиациями, конфликтами и конфликтогенными ситуациями. Кроме того, девиантность и конфликтогенность постоянно продуцировались колхозной системой, в особенности такими ее негативными характеристиками, как бюрократизация управления, всевластие начальства, бесправие рядовых колхозников вопреки звучавшим тогда декларациям о «колхозной демократии», о чем обоснованно пишет А.С. Левакин [Левакин 2009: 194]. Девиации, в т.ч. хулиганство, насилие, суицид, нередко сопровождали в 1930-х гг. производственный процесс в коллективных хозяйствах Дона, Кубани и Ставрополья и являлись непременным компонентом трудового быта местных колхозников и механизаторов МТС.
Самоубийства, о которых неоднократно упоминается в исторических источниках, зачастую становились реакцией отчаявшихся сельских жителей на широко распространенные в рамках рассматриваемой эпохи перманентные материальнобытовые затруднения и злоупотребления работников колхозной администрации и партийно-советских чиновников своими полномочиями. Представители власти, отчетливо понимавшие многообразие причин происходивших суицидов, вовсе не желали признавать негативные характеристики колхозной системы как неотъемлемый фактор самоубийств и по привычке объясняли таковые происками «контрреволюционеров» и прочих «врагов народа». Процитируем прозвучавшее на IV пленуме Северо-Донского окружкома ВКП(б) 29 ноября – 2 декабря 1935 г. утверждение о главной причине самоубийств колхозников: «Ясно, это здесь рука классового врага» 1 .
Пирамидальный образ социальной иерархии, имеющей корни в феодальнокорпоративном сознании, оказывал сильнейшее давление на индивидуальное поведение колхозников. Разрушение прежних ролевых принципов, усиление дифференциации вызвало и изменение образа общественной иерархии [Лукичев,
Скорик 1995: 113]. Однако в реальной социальной практике даже маленький начальничек оказывался прав, потому что у него больше прав.
Распространенным явлением в сфере общественного производства являлись межличностные конфликты между рядовыми колхозниками и трактористами, сопряженные с физическим насилием. Непосредственные мотивы вражды отличались большим разнообразием, причем нередко документы не позволяют ответить на вопрос, чем же обусловливались те или иные межличностные столкновения и ссоры между жителями села. Однако, бесспорно, мощнейшим стимулом для конфликтов между крестьянами становились негативные характеристики колхозной системы, стократно усиливавшие социальную и межличностную напряженность. Ведь, скажем, дефицит предметов ширпотреба, обуви, одежды, продовольственные затруднения вызывали у сельских жителей не только отчаяние и уныние (как говорили современники, «вот на людей и напала тоска, что хлеба нет ни куска» 1 ), но и рост человеческой агрессии. Так, один из очевидцев при описании состояния и настроений южно-российских колхозников в 1934 г. указывал на данный причинно-следственный комплекс: они «голодают, недовольны колхозами и властью, недовольны против всего, сейчас озлоблены» 2 . В такой ситуации любые противоречия между крестьянами стремительно могли перерасти (и нередко перерастали) в конфликты.
Поводом к конфликту на производстве могли выступить плохая (либо, напротив, ударная) работа: в первом случае лодыря стремились наказать за увеличение от его бездеятельности занятости добросовестных колхозников, а ударников и стахановцев не любили за их производственные достижения, ведь начальство призывало остальных аграриев стремиться к тому же. Случались споры и даже драки из-за плохого ухода за колхозным имуществом, из-за краж и т.д. Одним из весомых поводов к конфликту могла послужить критическая заметка в колхозную стенгазету.
В ряде случаев источники молчат о причинах межличностных конфликтов в колхозе или МТС, но от этого они не становились менее драматичными. В частности, в сентябре 1934 г. в Чернышевской МТС Азово-Черноморского края убили прицепщика Куренного. Сослуживцы сожгли его спящим в передвижном вагончике, служившем трактористам временным пристанищем на период полевых работ. Это сделали трактористы Ульянов, Сафронов и Копылов. Первые двое постоянно хулиганили и издевательски относились к лучшим трактористам, в т.ч. к Куренному. Незадолго до убийства они набросились на него в степи и «стали его давить до такой степени», что он с плачем закричал и умолял отпустить его. Тем самым, мотивом убийства Куренного стало неприязненное к нему отношение как к лучшему трактористу со стороны его менее прилежных, завистливых и хулиганистых коллег.
В источниках содержатся свидетельства и о сопряженных с насилием и издевательствами хулиганских выходках в сфере межличностного общения колхозников. Иной раз такого рода происшествия представляли собой проявление некоей «колхозной дедовщины», когда колхозники со стажем (или возомнившие себя таковыми) позволяли себе грубость и издевательства в отношении молодежи или принятых в колхоз единоличников.
Так, с августа 1934 г. в транспортной бригаде колхоза «Красное знамя» Каргинской МТС Базковского района Азово-Черноморского края, а затем и в 1-й производственной бригаде того же колхоза «проводилось издевательство над колхозниками путем отбития “банок”». Как отмечается в документах, «отбитие
“банок”» представляло собой «оттягивание кожи на полости живота, спины и т.д. одной рукой и нанесение удара по оттянутой коже ладонью другой руки» 1 . «Банки» физически получались довольно болезненными, а после их «отбития» на коже оставались синяки; некоторые колхозники даже плакали, если их подвергали этой процедуре.
Расследовавшие дело сотрудники правоохранительных органов и представители районного руководства не смогли установить, кто именно инициировал «банки» в транспортной бригаде, созданной на время молотьбы для перевозки зерна в амбары и на элеватор. Зато они четко зафиксировали, что, когда молотьба закончилась и бригаду за ненадобностью расформировали, входившие в нее колхозники вернулись в свои прежние бригады и туда же принесли практику «отбития банок». Она прижилась в производственной бригаде № 1, где такими процедурами руководил бригадный учетчик В.Л. Северякин (39 лет, «казак, белогвардеец, из бедняков»), а участвовали в них колхозники Боков, Колесниченко, Ткачев 2 .
Казалось бы, перед нами очередной факт издевательств возомнившего о себе начальства над колхозниками: ведь бригадный учетчик тоже относился к числу представителей колхозной администрации, хотя эта должность, конечно же, являлась не бог весть какой значительной. Но ситуация оказалась сложнее, поскольку сначала «банки» в транспортной бригаде появились по договоренности самих колхозников между собой. Их «отбивали» тому, «кто нарушит правило личного поведения, как например: ругань площадной бранью, порча воздуха углеводородом и т.д. и т.п.». Заметим, в производственной бригаде № 1 «банки» в большинстве своем уже практиковались «как мера взыскания, налагаемая на колхозника, допустившего тот или иной проступок по работе» 3 .
Причем колхозники транспортной бригады даже избрали своего «прокурора», которым стал их же собрат Дейнекин: он должен был определять число «банок» для провинившегося. Более того, хотя практика «отбития “банок”» имела широкий размах, сначала они наносились тому или иному согрешившему колхознику «исключительно с его согласия» и лишь впоследствии «стали даваться насильственным путем» 4 .
Противоправная практика «отбития “банок”» показательна для внутриколхоз-ной жизни, ведь наряду с другими колхозниками, а таковых в период с августа по декабрь 1934 г. насчитывалось 13 чел., «банками» наказали даже члена правления колхоза «Красное знамя» заведующего животноводством Мефодия Кружилина. Ему «отбили» две «банки» Северякин, Боков и Ткачев за «намерение взять со двора 1-й бригады одну оконную раму, которую он имел в виду использовать в животноводческой бригаде». Наказание производилось на хозяйственном дворе первой бригады в присутствии других колхозников и даже бригадира упомянутой бригады Маконина, который, однако, просто наблюдал за своими подчиненными и ничего не сделал для пресечения противоправных действий 5 . Бригадир третьей бригады того же колхоза Волненко рассказывал, что «он лично избегал ходить в бригаду № 1, из-за боязни как бы ему не дали там “банок”» 6 . Некоторым колхозникам «банки» «отбивали» неоднократно; страдали от этого беспредела и женщины.
Похожий случай наблюдался в колхозе имени Степана Разина той же
Каргинской МТС, где с июля 1934 г. по январь 1935 г. в транспортной бригаде «систематически избивались колхозники “столбухой”». Процедура этого наказания в источниках описана следующим образом: «Провинившегося колхозника исполнитель “столбухи” берет левой рукой за волосы на голове, обычно на макушке, после чего правой рукой наносит удар по левой руке, т.е. по руке с волосами». Как и «банки», «столбуха» оказывалась настолько болезненной, что некоторые колхозники (как правило, 17–18 лет) «от нее плакали» 1 .
Озорство и хулиганские выходки, постепенно перераставшие в издевательство одних членов колхозов над другими, имели место и далеко за пределами Дона. Так, по свидетельству старшего помощника прокурора Северо-Кавказского края Карпова, в мае 1935 г. на протяжении предшествующих весенних месяцев в колхозе «Путь Ленина» Павлодольской станицы Моздокского района практиковалась система избиения колхозников ложками, сильно напоминавшая «банки» и «столбуху». Группа колхозников (инспектор по качеству Губанов и его зять Мещеряков, а также учетчик М. Юров) систематически проводили подобные мероприятия в отношении колхозников и объявляли это деяние своего рода испытанием при приеме на работу в бригаду. «Таким путем, – утверждал Карпов, – были избиты вновь прибывшие плугатари Шолмеровчев, Пушкарев, затем были тяжело избиты колхозники Сараев, Густомясов и Лисицын». Нанесение побоев ложками практиковалось и в сельхозартели имени XVII партсъезда того же Моздокского района 2 .
Во внутриколхозных конфликтах особенно сильно страдали бережливые колхозники. Так, весной 1930 г. в селе Горькая Балка Терского округа СевероКавказского края группа женщин под руководством нескольких монахинь из местного монастыря попыталась разобрать из колхозной конюшни обобществленных лошадей. Конюх, приставленный к лошадям, отказался вернуть их бывшим владельцам. Тогда женщины, пользуясь численным превосходством, применили к конюху физическую силу. При этом «монашки, как одержимые», набросились на несчастного конюха, пытаясь «вырвать [ему] половые органы» [Гадицкая, Скорик 2009: 189].
Таким образом, многообразные девиации в межличностных отношениях колхозников представляли собой негативные и подлежащие осуждению противоправные деяния в формирующейся внутриколхозной жизни в ходе глобального социального эксперимента [Скорик 2001: 39-43], хотя значительная часть колхозников не воспринимала насилие над личностью как преступление. При этом девиации становились характерными чертами трудовых отношений и производственной повседневности в колхозах и МТС Дона, Кубани, Ставрополья в 1930-х гг. Имеющиеся в нашем распоряжении документы и материалы позволяют говорить о преимущественном распространении этих негативных явлений в первой половине указанного десятилетия. Именно тогда в социальной жизни деревни наиболее сильно ощущались деструктивные последствия проведения сплошной коллективизации. Постепенно нормализация обстановки в колхозной деревне на протяжении второй половины 1930-х гг. создавала благоприятную основу для минимизации девиаций и конфликтогенов, хотя говорить об их полной ликвидации не приходилось.
Список литературы Девиации как компонент производственного быта в южно-российской колхозной деревне 1930-х гг
- Гадицкая М.А., Скорик А.П. 2009. Женщины-колхозницы Юга России в 1930-е годы: гендерный потенциал и менталитет. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 324 с
- Левакин А.С. 2009. Формирование и деятельность административно-хозяйственного аппарата колхозов в 1930-е гг. (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья): дис. … к.и.н. Новочеркасск. 257 с
- Лукичев П.Н., Скорик А.П. Поведенческая типология студенческой группы // Социологические исследования. 1995. № 7. С. 109-115.
- Скорик А.П. 2001. Проблемы экспериментов и ошибок в историческом процессе: дис.... д.филос.н. Ростов н/Д. 351 с