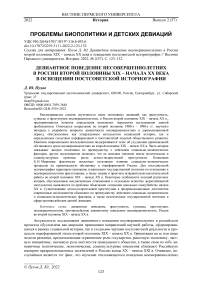Девиантное поведение несовершеннолетних в России второй половины XIX - начала ХХ века в освещении постсоветской историографии
Автор: Пухов Д.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Археология советского времени: история одного года
Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается степень изученности таких негативных девиаций, как преступность, суициды и проституция несовершеннолетних, в России второй половины XIX - начала XX в., предпринимается попытка определения возможных перспектив исследования данной проблематики. Отмечается возрастание во второй половине 1980-х - 1990-х гг. научного интереса к разработке вопросов девиантности несовершеннолетних в дореволюционный период, обусловленное как утверждением методологии социальной истории, так и определенным сходством пореформенной и постсоветской моделей общественного развития. Многими современными исследователями поддерживается тезис об ухудшении криминальной обстановки в среде несовершеннолетних во второй половине XIX - начале XX в. Часть авторов связывают данную тенденцию по преимуществу с действием социально-экономических факторов, другие исследователи полагают, что не меньшее значение имели политические и социокультурные причины роста детско-подростковой преступности. Концепция Б. Н. Миронова фактически исключает негативное влияние социально-экономических процессов на криминальную обстановку в пореформенной России. Для постсоветской историографии характерно признание гуманизации государственной политики по отношению к несовершеннолетним преступникам, а также теории и практики исправительно-воспитательной работы во второй половине XIX - начале XX в. Некоторые особенности позиций различных авторов, обусловленные неоднозначным отношением к отдельным аспектам дюркгеймовской методологии, выявляются по проблеме объяснения «эпидемии школьных самоубийств» начала XX в. Существование детско-подростковой проституции в предреволюционные десятилетия современные исследователи объясняют по преимуществу действием социально-экономических и социально-психологических факторов, а также недостатками государственной политики в сфере противодействия данной девиации.
Девиантное поведение, преступность, суициды, проституция, несовершеннолетние, противодействие девиантному поведению несовершеннолетних, Россия во второй половине xix - начале xx в
Короткий адрес: https://sciup.org/147245298
IDR: 147245298 | УДК: 930.2(04Х470)"18/19":316.6-053.6 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-123-132
Текст научной статьи Девиантное поведение несовершеннолетних в России второй половины XIX - начала ХХ века в освещении постсоветской историографии
во второй половине XIX – начале XX в. на протяжении постсоветского периода осуществлялось не только историками, но также юристами, педагогами и социологами, пытавшимися найти в историческом прошлом конструктивный опыт, актуальный для решения задач социальной адаптации «трудных» детей и подростков. Продуктивность междисциплинарного взаимодействия в процессе разработки проблематики истории детства подтверждена опытом организации исследовательской работы в современных условиях [ Янковская, Ромашова , 2009, с. 114].
Постсоветский период истории изучения отклоняющегося поведения несовершеннолетних в дореволюционной России в определенной степени нашел отражение в статьях Л. В. Шевниной [ Шевнина , 2012] и М. В. Ромашовой [ Ромашова , 2013], а также в историографическом разделе монографии И. В. Синовой [ Синова , 2019, с. 4–12]. Однако достаточно широкий охват тематики и хронологии рассмотренных авторами исследований по истории детства предопределил возможность лишь краткой характеристики отдельных публикаций 1990–2010-х гг., связанных с проблематикой девиантности.
Изучение отклоняющегося поведения несовершеннолетних в дореволюционной России имеет достаточно длительную историю. Научное сообщество второй половины XIX – начала ХХ в. уделяло серьезное внимание различным формам детско-подростковой девиантности. Шел процесс накопления фактологического материала, складывались разные методологические подходы к его осмыслению. При этом можно говорить о таких особенностях отечественной научной традиции, как доминирование гуманистической направленности, признание значимости социальных факторов отклоняющегося поведения детей и подростков (исследования М. Н. Гернета, Д. А. Дриля, В. М. Бехтерева и др.). На протяжении советского периода наблюдается существенный спад интереса к данной проблематике. Девиантность несовершеннолетних в дореволюционной России рассматривалась как следствие несовершенства социальноэкономического общественного устройства (работы Ю. В. Гербеева, С. С. Остроумова и др.). Оживление интереса к историко-девиантологической тематике происходит в годы «перестройки» (публикации С. И. Голода, Э. Б. Мельниковой, С. А. Завражина и др.) [ Завражин , 1996, с. 112, 123, 319–321, Харсеева , 2007, с. 4–5, Шевнина , 2012, c. 87–91].
В 1990-х гг. в условиях либерализации политической системы активизировался поиск новых теоретических подходов к организации исследований, стало возможным переосмысление советских оценок различных аспектов истории Российской империи, возрос интерес к дореволюционному опыту противодействия негативным формам отклоняющегося поведения.
Тема проституции несовершеннолетних в Петербурге во второй половине XIX – начале XX в. затронута в монографии Н. Б. Лебиной и М. В. Шкаровского. В исследовании сделаны выводы о причинах этой разновидности отклоняющегося поведения, степени ее распространенности, социальном облике данной группы несовершеннолетних девиантов, приведены сведения об организации преступной деятельности, связанной с вовлечением детей и подростков в сферу оказания «интимных услуг». Авторы монографии отметили, что большую часть несовершеннолетних, занимавшихся проституцией, составляли выходцы из бедных рабочих семей, беспризорные, а также дети проституток [ Лебина, Шкаровский , 1994, с. 32]. Исследователи связывают рост проституции с процессом урбанизации, критически оценивают государственную политику в этой сфере [Там же, с. 31, 54].
В диссертации Л. И. Беляевой показано формирование правовых, организационных и педагогических основ функционирования исправительных заведений для несовершеннолетних в середине XIX – начале XX в. Процесс становления этих учреждений в дореволюционной России, по оценке автора исследования, начавшийся в эпоху судебных реформ и завершившийся в конце XIX в., развивался под влиянием таких факторов, как эволюционные изменения в социально-экономической сфере, международный опыт и «мощное общественное движение за декриминализацию несовершеннолетних» [Беляева, 1995, с. 14, 18]. Л. И. Беляева приходит к выводу о том, что в XIX веке политика государства в отношении юных правонарушителей «приобрела более мягкий, гуманный характер» [Там же, с. 19]. Признавая, что сложившаяся в пореформенный период система исправительных учреждений имела существенные недостатки, Л. И. Беляева оценивает ее становление как новый этап в развитии института исполнения наказаний для детей и подростков, одним из итогов которого стало возникновение педагогики ис- правительного воспитания [Там же, с. 30]. Использование цивилизационного подхода позволило исследовательнице сделать выводы об особенностях российской практики работы с несовершеннолетними правонарушителями. В диссертации показана ключевая роль общественности в создании исправительных приютов и колоний [Там же, с. 25, 28–36].
-
С. А. Завражиным были рассмотрены социально-педагогические основы предупреждения отклоняющегося поведения несовершеннолетних в России во второй половине XIX – первой трети XX в. Автор диссертации пишет о существенном росте статистических показателей детско-подростковой преступности и суицидальности во второй половине XIX – начале XX в. [ За-вражин , 1996, с. 103, 109]. Исследователь отмечает, что дореволюционное российской профессиональное сообщество рассматривало девиации несовершеннолетних прежде всего как следствие влияния социальных и социально-педагогических факторов, в то же время, не отрицая и значимость психофизических причин отклоняющегося поведения [Там же, с. 98, 101–102]. По мнению С. А. Завражина, гуманизация теории и практики воспитательно-профилактической работы во второй половине XIX – начале XX в., ставшая итогом демократических реформ 1860-х гг., обеспечивала повышение ее продуктивности, однако авторитарный подход к организации работы системы принудительного воспитания оставался более распространенным [Там же, 1996, с. 152–153, 317–318].
По оценке Б. Н. Миронова, в 1834–1913 гг. наблюдался существенный рост доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей массе правонарушений. По мнению петербургского историка, распространение криминального поведения среди подростков и молодежи в определенной степени объясняется борьбой представителей этих возрастных групп за независимость в отношениях с главами семей [ Миронов , 1998, с. 38].
В монографии социологов И. А. Голосенко и С. И. Голода приводятся количественные данные, свидетельствующие о том, что проституция несовершеннолетних являлась значимой проблемой в предреволюционные десятилетия. Авторы указывают, что значительный процент «жриц любви» составляли «сироты, полусироты, часто незаконнорожденные или неизвестного происхождения», а также переселившиеся в город крестьянки [ Голосенко, Голод 1998, с. 36– 37]. Исследователи обращают внимание на рост детско-подростковой проституции в годы Первой мировой войны, который они объясняют массовым призывом мужчин в армию и связанным с этим ослаблением внутрисемейного контроля [Там же, 1998, с. 56].
Автор исследования о деятельности полиции по пресечению противоправных деяний в области общественной нравственности В. В. Лысенко приходит к выводу о том, что современники видели причины детско-подростковой проституции в «кризисе в сфере половых отношений», неблагополучной психологической обстановке в семьях рабочих и тяжелом материальном положении низших городских слоев [ Лысенко , 1998, с. 260–262].
Одной из первых региональных работ по теме отклоняющегося поведения стала диссертация А. Г. Быковой о проблеме проституции в больших городах Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. Омская исследовательница отмечает, что тайная проституция, в которой преобладали лица моложе 18 лет, была более распространена, чем легальная. А. Г. Быкова обращает внимание на преобладание проституток из неполных и необеспеченных семей, вышедших из крестьянской и мещанской среды [ Быкова , 1999, с. 92–93, 105–106].
Историко-педагогическая диссертация О. И. Поспеловой посвящена изучению средств воздействия на несовершеннолетних в исправительных учреждениях России во второй половине XIX – начале XX вв. Ухудшение криминальной обстановки среди несовершеннолетних на протяжении рассматриваемого периода исследовательница объясняет совокупностью таких социально-экономических факторов, как углубление противоречий между высокоразвитым капиталистическим производством и полукрепостническими отношениями, быстрые темпы расслоения российского крестьянства, влияние кризиса конца 1870-х гг., дешевизна рабочей силы, низкий уровень жизни большей части населения [ Поспелова , 1999, с. 32]. По оценке О. И. Поспеловой, существенное влияние на организацию работы исправительновоспитательных учреждений оказали гуманистические и демократические настроения в педагогическом сообществе [Там же, 1999, с. 145].
Своеобразным итогом историко-девиантологичеких исследований второй половины 1980–1990-х гг. стал выход обобщающей коллективной монографии «Девиантность и социаль- ный контроль в России (XIX – ХХ вв.): тенденции и социологическое осмысление», подготовленной под руководством социолога Я. И. Гилинского. В исследовании содержались краткие характеристики рассматриваемых детско-подростковых девиаций в предреволюционные десятилетия, в основном соответствующие выводам, сделанным в более ранних работах. Несколько отличается от оценок других авторов позиция исследовательского коллектива по вопросу определения количественных тенденций преступности несовершеннолетних. По мнению создателей монографии, процентная доля преступлений, совершенных детьми и подростками в 1874–1912 гг., в общей массе противоправных деяний была относительно стабильной «при некоторой тенденции к возрастанию» [Девиантность и социальный контроль…, 2000, с. 139].
Одним из последствий смены либеральной парадигмы общественного развития на консервативную на рубеже XX – XXI вв. стал определенный спад интереса государственных структур к девиантологическим изысканиям [ Гилинский , 2021, с. 171]. Тем не менее, на протяжении двух последних десятилетий было выполнено значительное количество исторических исследований детско-подростковых девиаций.
Автор диссертации, посвященной анализу преступности в среде несовершеннолетних и усилиям государства по борьбе с ней, Е. В. Мишина называет такие причины роста криминализации детей и подростков во второй половине XIX – начале XX в., как «падение жизненного уровня основной части населения», увеличение числа несовершеннолетних, «оказавшихся без надлежащего родительского внимания», затрудненность доступа к образованию [ Мишина , 2002, с. 61]. Исследовательница считает «несомненным прорывом и достижением» смещение на протяжении рассматриваемого периода акцента с наказания юных правонарушителей на меры образовательного и воспитательного характера как сфере законодательной, так и правоприменительной деятельности, признавая в то же время, что не всегда реализация новых установок осуществлялась в необходимом объеме и достаточно рационально [Там же, с. 92, 96].
Ряд значимых обобщений о некоторых видах отклоняющегося поведения детей и подростков сделан в историко-девиантологическом исследовании Н. А. Зоткиной, выполненном на материалах Пензенской губернии. Как отмечает автор диссертации, в этом регионе за период с 1890 по 1913 гг. доля несовершеннолетних, осужденных окружным судом, выросла почти в два раза [ Зоткина , 2002, с. 68]. Рост детско-подростковой преступности, по оценке Н. А. Зоткиной, был вызван изменениями в социально-экономической сфере, политической нестабильностью, аномией, ослаблением страха перед карательной силой государства, «революцией ожиданий», алкоголизацией, «фактическим отсутствием специализированных исправительных заведений» [Там же, с. 233–236]. Автор приводит данные статистических исследований, свидетельствующие о наличии в Пензенской губернии существенного сегмента детско-подростковой проституции [Там же, с. 208–209].
В диссертации Д. Ю. Ерещенко, рассмотревшего криминальную обстановку в Петрограде в годы Первой мировой войны, отмечается значительный рост преступности несовершеннолетних на протяжении данного периода. Автор исследования объясняет эту тенденцию действием таких факторов, как ослабление опеки над подрастающим поколением в военных условиях, обострение проблемы беспризорности, недостатки судебной практики, нехватка мест в исправительных учреждениях [ Ерещенко , 2003, с. 74–75, 78].
Проблемы детско-подростковой преступности и проституции затронуты в диссертации А. В. Петровой, посвященной исследованию сиротства во второй половине XIX – начале ХХ в. по материалам Тверской губернии. Исследовательница рассматривает сиротство как одну из предпосылок отклоняющегося поведения, в то же время отмечая значимость такого фактора девиантности, как ухудшение материального положения непривилегированных сословий, связанного с переходом к капитализму. По оценке А. В. Петровой, на протяжении рассматриваемого периода основную массу проституток составляли несовершеннолетние [ Петрова , 2007, с. 72, 108, 112–113].
Выделение женской преступности второй половины XIX – начала ХХ в. как самостоятельного объекта регионального исторического исследования позволило Е. Н. Косарецкой выявить как основные характеристики этого сегмента криминальной деятельности в целом, так и специфику противоправного поведения несовершеннолетних девушек. В частности, автором определена доля правонарушений, совершаемых детьми и подростками в общем объеме жен- ской преступности Орловской губернии, показаны особенности видовой структуры правонарушений данной возрастной группы. Е. Н. Косарецкая отмечает, что количественные показатели женской преступности Орловской губернии существенно не изменялись вследствие слабой вовлеченности этой социальной группы в модернизационные процессы [Косарецкая, 2007, с. 18–19].
В диссертации О. В. Харсеевой детско-подростковая преступность и борьба с ней в Курском регионе рассмотрены в контексте общероссийских тенденций эволюции противоправного поведения несовершеннолетних и государственной политики в сфере его предотвращения. Причины роста криминализации подрастающего поколения в пореформенные десятилетия О. В. Харсеева видит в сочетании таких социокультурных, социально-экономических и политических факторов, как разрушение традиционных институтов социального контроля в процессе индустриализации и урбанизации, увеличение численности пролетариата, духовнонравственный кризис российского общества, революционные и военные события начала ХХ в. [ Харсеева , 2007, с. 12, 17–18]. Автор исследования приходит к выводу о том, что в аграрной Курской губернии, «роста преступности несовершеннолетних… не наблюдалось» из-за сохранения в регионе патриархального уклада общественных отношений. В диссертации дается по преимуществу положительная оценка реформы уголовной ответственности несовершеннолетних 1897 г., которая привела к гуманизации системы наказаний, расширению сети воспитательно-исправительных учреждений, созданию предпосылок для возникновения ювенальной юстиции [Там же, с. 12–14].
И. С. Храмова, сферой научных интересов которой являются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в России в период абсолютизма, пришла к заключению о преобладании в структуре детско-подростковой преступности в конце XIX в. правонарушений, совершаемых «для того, чтобы выжить». В то же время значительное количество противоправных деяний, как указывает исследовательница, свидетельствовало скорее о «нравственном разложении» совершивших их лиц [ Храмова , 2007, с. 117, 120]. И. С. Храмова отмечает высокую интенсивность законодательной деятельности в области решения проблемы преступности в среде несовершеннолетних в середине XIX – начале ХХ вв., в результате которой отношение государства к данной группе девиантов «приобрело характер опеки и воспитания» [Там же, с. 106].
Исследовательница повседневной жизни учащихся и учителей Урала в XIX – начале XX вв. М. В. Егорова сделала вывод о преобладании «школьных проблем» как причин суицидального поведения несовершеннолетних. Помимо этого, предпосылками самоубийств могли быть семейное неблагополучие, болезни, сложности в личной жизни. После завершения революции 1905–1907 гг. дополнительным мотивом суицидов, по мнению М. В. Егоровой, становится «упадок веры в возможность решения назревших проблем в обществе» [ Егорова , 2008, с. 117–120].
Достаточно подробные количественные характеристики детско-подростковой проституции введены в научный оборот в монографии А. А. Ильюхова, посвященной истории данной девиации в России. В частности, исследователь отмечает, что на рубеже XIX–ХХ вв. «основной возраст жриц любви составлял от 15 до 18 лет» [ Ильюхов , 2008, с. 229–230].
В диссертации С. И. Морюшкина, посвященной исследованию преступности и борьбы с ней в Рязанской губернии, отмечается увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними на протяжении пореформенного периода. Причины этой тенденции историк видит в таких проблемах, как безнадзорность, тяжелые условия труда несовершеннолетних, наличие ярко выраженной имущественной дифференциации [ Морюшкин , 2009, с. 165].
Темой монографического исследования специалиста по истории детства А. Б. Лярского стала «эпидемия» школьных самоубийств начала ХХ в. Исследователь обращает внимание на возможность значимого влияния административных и политических факторов на адекватность статистики подростковых суицидов [Лярский, 2010, с. 28, 37, 43]. С этих позиций А. Б. Лярский критикует дюркгеймовский подход к объяснению взаимосвязи национальных кризисов и динамики суицидов, наиболее последовательно представленный в современной российской историографии в работах И. В. Синовой [Там же, с. 46–50]. Серьезное внимание уделено в монографии восприятию самоубийств самими учащимися. В тех или иных суицидальных случаях, как отмечает А. Б. Лярский, «речь может идти о шантаже детьми взрослых», протесте либо о «своеобразной игре самоутверждающихся школьников» и определенной «моде» на самоубийства [Там же, с. 295]. Мотивы самоубийств, по мнению историка, могли быть связаны с некоторыми особенностями буржуазной семьи и мировоззрения российской дореволюционной интеллигенции, а также со спецификой революционного сознания [Там же, с. 197, 220–222].
По оценке автора диссертации об истории борьбы с проституцией Н. К. Мартыненко, детский сегмент данной девиации существовал в предреволюционные десятилетия «по всей России, особенно в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Казани, Самаре, Кишиневе, на Кавказе и в Закавказье». По большей части в эту сферу вовлекались «дети улицы, дети без роду и племени, дети алкоголиков и незаконнорожденные» [ Мартыненко , 2012, с. 80]. Как показано автором исследования, представители общественности выступали за ужесточение законодательства, регламентирующего отношения подобного рода, создание «приютов и специальных исправительных учреждений, предоставления обществам защиты детей и женщин права осуществлять юридическую защиту малолетних» [ Мартыненеко , 2011, с. 166–172].
Значительное внимание уделено теме девиантности в монографии П. П. Щербинина, посвященной детской повседневности в годы Первой мировой войны. С точки зрения автора исследования, ухудшение криминальной обстановки среди несовершеннолетних на протяжении военного периода обусловлено действием таких факторов, как мобилизация и связанная с ней утрата «семейной дисциплины», ухудшение условий школьного обучения, массовые увольнения подростков из мелких мастерских, уличные беспорядки, малочисленность специализированных исправительных учреждений, «общая дезорганизация жизни», алкоголизация, сиротство и беспризорность [ Щербинин , 2015, с. 116–117, 120–124]. «Взрыв малолетней проституции» в условиях мирового вооруженного конфликта П. П. Щербинин объясняет ослаблением внутрисемейных связей, ухудшением материального положения солдатских семей, особенностями военного быта [Там же, с. 131].
В монографии историка детства И. В. Синовой названы такие причины детско-подростковой девиантности во второй половине XIX – начале XX вв., как неудовлетворенность первичных жизненных потребностей, аномичное состояние общества, недостатки воспитания, негативное влияние родителей, несовершенство системы образования, отсутствие должного контроля [ Синова , 2019, с. 114–115, 117]. Исследовательница неоднократно подчеркивает значимость социально-экономических предпосылок отклоняющегося поведения несовершеннолетних [Там же, с. 111, 115, 175–176]. Автор отмечает высокую концентрацию детско-подростковой преступности в крупных городах, приводит данные о сословной принадлежности юных правонарушителей, гендерных особенностях, характерных для данного типа отклоняющегося поведения [Там же, с. 122–125]. В соответствии с дюркгеймовской концепцией И. В. Синова объясняет спад числа зафиксированных самоубийств в период Первой революции воодушевленностью «общественными интересами», а их рост после окончания революционных событий – разочарованием, апатией, а также обострением социально-экономической борьбы [Там же, с. 141, 149].
Исследовательница истории женской повседневности Н. Б. Кончаковская показала наличие в предреволюционный период детско-подростковой проституции в Уральском регионе, обратила внимание на более поздний средний возраст вовлечения девушек в сферу «интимных услуг» в Пермской губернии по сравнению с общероссийскими данными [ Кончаковская , 2020, с. 71].
Рассмотренный материал свидетельствует о том, что современная российская историография девиантности несовершеннолетних сохранила как преобладавшую в дореволюционной научной традиции гуманистическую направленность, так и междисциплинарный характер, проявляющийся, в частности, в определенных особенностях проблематики исследований. Историки и социологи в большей степени сконцентрированы на изучении количественных тенденций, конкретно-исторических предпосылок, сословных и гендерных характеристик отклоняющегося поведения детей и подростков, региональной специфике. В работах педагогов и юристов основное внимание, как правило, уделяется деятельности государственных и общественных структур, направленной на противодействие негативным формам девиантности, а также теориям отклоняющегося поведения, определявшим восприятие этого феномена интеллектуальной и административной элитой второй половины XIX – начала XX вв., использовавшимся методикам перевоспитания и социальной адаптации.
Перспективы дальнейшей разработки рассматриваемой темы могут быть найдены, в частности, в рамках изучения таких ее аспектов, как уточнение динамики различных видов девиаций в детско-подростковой среде, объяснение тех или иных количественных тенденций и региональных особенностей, более развернутое обоснование значимости различных факторов, влиявших на отклоняющееся поведение в среде несовершеннолетних. В частности, концепция социально-экономического развития пореформенной России, предложенная Б. Н. Мироновым, не позволяет объяснять рост негативной девиантности на протяжении данного периода снижением уровня благосостояния большинства населения [ Миронов , 2018, с. 57–59]. В то же время дискуссия по этому важному для целого ряда направлений исследовательской работы вопросу не завершена [ Нефедов , 2019, с. 225–231]. Прояснению различных аспектов истории детско-подростковых девиаций могло бы способствовать более интенсивное вовлечение в научный оборот архивных материалов, сравнительный анализ тенденций, характерных для различных регионов России, а также использование возможностей математической обработки массовых источников (в частности, материалов периодической печати, судебно-следственных документов). Значимые выводы могли бы быть получены в ходе компаративных исследований.
Список литературы Девиантное поведение несовершеннолетних в России второй половины XIX - начала ХХ века в освещении постсоветской историографии
- Беляева Л.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности исправительных заведений для несовершеннолетних в России, середина XIX - начало XX в.: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 1995. 48 с.
- Быкова А.Г. Проституция в истории больших городов Западной Сибири в 1880-1914 гг.: дис.. канд. ист. наук. Омск, 1999. 225 с. EDN: QDDCOL