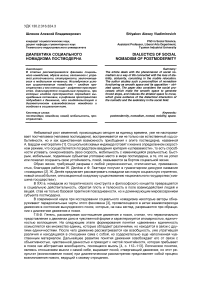Диалектика социального номадизма постмодерна
Автор: Шляков Алексей Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен социального номадизма, образа жизни, связанного с утратой устойчивости, статуарности, заключающегося в мобильном кочевании. Исследуются условие существования номадизма - гладкое пространство и его оппозиция - рифленое пространство. Анализируются социальные процессы, при которых гладкое пространство порождает вынужденные остановки, а рифленое пространство побуждает к движению, что свидетельствует о диалектическом взаимодействии номадного и оседлого в социальном поле.
Постмодерн, номадизм, номад, мобильность, пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14940964
IDR: 14940964 | УДК: 130.2:316.324.3
Текст научной статьи Диалектика социального номадизма постмодерна
Небывалый рост изменений, происходящих сегодня за единицу времени, уже не настораживает постчеловека (человека постмодерна), воспринимается им не только как естественный ход событийности, но и как единственная возможность приобщения к элите постмодерна, названной А. Бардом «нетократия» [1] . Со школьной скамьи индивида готовят к жизни в определенном скоростном режиме, что осуществляется посредством введения критерия «успеваемости», то есть способности успевать, синхронизовать свою скорость, мобильность с изменяющейся реальностью. Быстрым, мобильным, подвижным субъектам уготовано место в мире постмодерна, а те, кто не успел или пожелал сохранить свою устойчивость, покой, оказываются за бортом социальной жизни.
Образ жизни, требующий разрыва с любой укорененностью, статичностью, привязанностью, благодаря работам Ж. Делёза и Ф. Гваттари получил в гуманитарном дискурсе название «номадизм» [2] . Ж. Делёз предлагает рассматривать номадизм как новую социальную стратегию, новый способ бытия, оппозиционный оседлому существованию национального государства («машина государства»).
В XXI в. номадизм из теоретического конструкта и философского концепта превращается в социальную действительность, обретая плоть и телесность в поле взаимодействия людей и вещей, став не только базовой практикой повседневности, но и доминирующим мировоззрением субъекта постмодерна.
В современной науке при исследовании социального номадизма некоторые авторы обнаруживают парадоксальные черты этого феномена [3] , проявляющиеся в актах взаимоперехода движения в состояние вынужденного покоя, которые, на наш взгляд, разрешаются при обращении к диалектике движения и покоя.
Г.В.Ф. Гегель, рассматривая соотношение движения и покоя, считал, что первоначально представление о движении дано в чувственной форме и характеризуется атомарностью, единичностью воплощения. На следующем этапе формирования понятия «движение» единичность осмысляется как множество единиц, которые обладают различиями, но находятся в связи с другими единичностями. После чего движение рассматривается как всеобщность, уже утратившая различия и находящаяся в отношении сама с собой, но содержательно еще наполненная чувственным материалом. Дальнейшее развитие понятия движения освобождает его от связи с объективностью, чувственной данностью и приводит к чистой понятийности, которая пребывает в покое как абстрактная всеобщность, покоящаяся мысль [4, с. 112–113]. Логическое понятие, являясь отношением мысли к самой себе, выражает покой, отвергающий движение, но этот результат (возникновение покоя) при диалектическом рассмотрении представляет собой процесс возникновения нового, ведущий к своему отрицанию.
Для описания поля существования номада Ж. Делёз вводит понятие «гладкое пространство». Это пространство можно эксплуатировать, только перемещаясь по нему, скользя и рассеиваясь по поверхности. Противоположностью этому гладкому пространству выступает «рифленое пространство», пространство линий и углов, которое можно исчислять и в котором можно размещаться, заполняя его. Так как и гладкое, и рифленое пространства есть формы прочтения субъектом протяженности объектов, то они могут перетекать одно в другое и возникать друг из друга. Так, в рифленом пространстве Города можно скользить по поверхности, не останавливаясь ни в одной из точек, и быть не привязанным к нему (образ жизни различных субкультур), а можно бороздить, картографировать гладкое пространство океана. Город может порождать сеть гипермаркетов, теле-радио-коммуникаций и одновременно давать приют странникам, туристам.
Постсовременный номад может и вовсе обойтись без видимого движения, осуществляя кочевание сидя в кресле перед монитором компьютера или в транспортном средстве. Традиционный кочевник, номад-бедуин так и кочевал, поджав ноги, сидя на своем верблюде. «Кочевник скорее тот, кто не движется», - ссылаясь на А. Тойнби, пишет Ж. Делёз [5] . Движение не является определяющим в характеристике номадического образа жизни. Для него главными являются скорость и интенсивность (импульс): готовность оставить ближнего ради дальнего, покинуть Дом ради Пути, уйти от вечного к сиюминутному. Определяющей чертой социального номадизма будет выступать «характер опространствования, форма бытия в пространстве и для пространства» [6].
Гладкое пространство номада - это пространство без границ, линий и препятствий. Как пишет А.Ф. Филиппов, «там, где нет препятствий, рубежей, там... нет движения как такового» [7]. Однако обнаружение препятствия возможно только тогда, когда существует представление о Пути, маршруте следования с его начальной точкой отсчета и конечной точкой прибытия. Для номада точки, составляющие маршрут, движутся вместе с маршрутом, лишая маршрут дискретности. Но сам маршрут, поле существования номада всегда располагается между точками оседлости, оппозициями гладкого пространства - лесом и горами.
В социальной среде, несмотря на растущие скорости, присутствуют статуарные позиции, которые представляют собой места обретения номадического импульса, который связан с отрывом от любой привязанности, идентичности, устойчивости: это аэропорты, вокзалы, метро. Видимая подвижность не исчерпывает содержание социального номадизма: сегодня номадизм может проявляться как видимая стабильность. В эпоху постмодерна субъект номадизма уже не нуждается в движении. Появление номадических предметов (миниатюрных, многофункциональных объектов), их превращение из стационарных в мобильные, легко переносимые, позволило субъекту, оставаясь «здесь и сейчас», совершать коммуницирование, осуществлять действия, не перемещая тело [8, с. 57].
Возможность разнообразного преодоления пространства гарантирует выпадение из движения. Так, невозможно представить автомобильные потоки без «пробок», авиаперелеты без откладывания рейса из-за неблагоприятных метеоусловий, поездку на поезде без сидения в купе. Оказавшись в позиции статичности и воспринимая ее как посягательство на свободу, субъект вынужден обращаться к номадическим предметам: сотовым телефонам, ноутбукам, сети Интернет - для создания новых форм номадизма. Распространение мобильных устройств и ризомной сети сделало состояние покоя и устойчивости неочевидным, иллюзорным, превратив видимое движение в кочевание по электронным образам и знакам текста. Остановки и статуарность возникают как следствия стремления к скоростям [9].
В точке вынужденного покоя поведение номада обусловлено не логикой местонахождения, а необходимостью заполнения своего присутствия в точке покоя смыслом, что осуществляется путем интернавтики (блужданием по Сети, по полю текста), которая лишь симулирует целенаправленную деятельность, а на самом деле предназначена для заполнения времени. Субъект уже не создает, как в модерне, общности со случайными попутчиками, как турист или путешественник, избегает взаимодействия посредством стандартного набора вербальных стереотипов.
Стремление к абсолютизации свободы и снятию пространственных ограничений приводит к номадическому всплеску, росту мобильностей. Однако, как правило, номадические потоки жестко обусловлены внешней реальностью: либо бизнесом, либо растущей индустрией туризма, а карьерный рост все больше напоминает принуждение к мобильности, провоцирующее возникновение остановок в пути, ожиданий, которые могут быть наполнены смыслом только при использовании номадических предметов, позволяющих исключить движение и при этом быть связанным со всем миром.
Ссылки и примечания:
-
1. Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с.
-
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Я.И. Свирского. Екатеринбург ; М., 2010. 895 с.
-
3. Филиппов А.Ф. Парадоксальная мобильность // Отечественные записки. 2012. Т. 50, № 5. С. 8–23.
-
4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. 452 с.
-
5. Делёз Ж. Указ. соч. С. 640 ; Тойнби А.Дж. Исследование истории. Т. 1. Возникновение, рост и распад цивилизаций. М., 2009. 676 с.
-
6. Делёз Ж. Указ соч. С. 819.
-
7. Филиппов А.Ф. Указ. соч.
-
8. Ж. Аттали пишет о таких предметах: «Новые предметы, которые я называю номадическими (кочевыми), так как все они – небольшого размера, изменят в будущем взаимоотношения во всем спектре современной жизни. И прежде всего они изменят отношение человека к самому себе. Все возможные виды услуг трансформируются в предметы, и их функции все больше и больше призваны обладать портативным, то есть кочевым, характером. Они подскажут вам, как нужно устанавливать новые отношения с городом и семьей, как относиться к жизни и смерти». См.: Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с.
-
9. Филиппов А.Ф. Указ соч.
Список литературы Диалектика социального номадизма постмодерна
- Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения/пер. с фр. Я.И. Свирского. Екатеринбург; М., 2010. 895 с.
- Филиппов А.Ф. Парадоксальная мобильность//Отечественные записки. 2012. Т. 50, № 5. С. 8-23.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. 452 с.
- Тойнби А.Дж. Исследование истории. Т. 1. Возникновение, рост и распад цивилизаций. М., 2009. 676 с.
- Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с