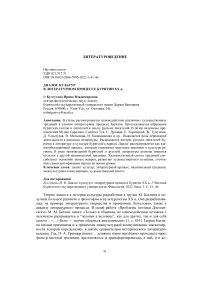Диалог культур в литературном процессе Бурятии ХХ в
Автор: Булгутова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимодействие различных художественных традиций в едином литературном процессе Бурятии. Прослеживается обращение бурятских поэтов и писателей к опыту русских писателей. В обзор включены произведения Мунко Саридака, Солбонэ Туя, С. Дунаева, Е. Хоринской, Ж. Тумунова, Д. Улзытуева, В. Митыпова, И. Калашникова и др. Выявляется роль переводной деятельности в развитии литературы. Раскрывается интерес русских писателей Бурятии к литературе и культуре бурятского народа. Диалог рассматривается как взаимообогащающий процесс, который становится заметным явлением в культуре региона. В ряде произведений бурятской и русской литературы региона имеются отсылки к другой национальной традиции. Художественный синтез традиций способствует освоению новых жанров, развитию художественного сознания, уточнению самоидентификации народа на новом уровне.
Диалог культур, литературный процесс, национальная традиция, межкультурная коммуникация, художественный синтез
Короткий адрес: https://sciup.org/148324336
IDR: 148324336 | УДК: 821.512.31
Текст научной статьи Диалог культур в литературном процессе Бурятии ХХ в
Теория диалога в истории культуры разработана в трудах М. Бахтина и получила большое развитие в философии и культурологии ХХ в. Она разрабатывалась на примере литературного творчества и применима, безусловно, также к анализу литературного процесса. В своей работе «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтин писал: «Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и “человек в человеке”, как для других, так и для себя самого. <…> Быть — значит общаться диалогически» [1, с. 434]. Теория Бахтина вполне применима и к процессам межкультурной коммуникации, закономерности которой определялись в школе сравнительно-исторического литературоведения. Так, П. А. Гринцер пишет: …влияние извне неизбежно проходило через фильтр местной традиции, преломлялось и трансформировалось в ней, и в ко- нечном счете именно эта традиция определяла, как и что заимствуется, оказывается жизнеспособным и перспективным» [2, с. 32].
В литературе Бурятии в начале ХХ в. попытка проследить отклик на произведения другой культуры, обусловливает обращение к творчеству русскоязычных поэтов Мунко Саридака (1909–1929) и Солбонэ Туя (1892–1938). Так, исследователи выделяют влияние русской поэзии на формирование стиля. В творчестве Мунко Саридака такого рода переклички можно проследить в стихотворении «Саянам», которое отсылает к «Сорокоусту» Есенина. «Саяны тучи копят, / нахмурен снежный лоб... / Ужель пророют копи? / И их зальет поток? / Иль рельсы в грудь проложит / железная рука? / Мне грустно, / сердце гложет / Саянская тоска…» [7, с. 10–11]. Мысль о наступлении цивилизации, вытесняющей традиционный уклад жизни, была поэтически оформлена С. Есениным: «Милый, милый, смешной дуралей, / Ну куда он, куда он гонится? / Неужель он не знает, что живых коней / Победила стальная конница?» В стихотворении Мунко Саридака тревога за природу родного края, за ее будущее оказывается созвучной есенинским мотивам, у него появляются образы «железной руки» и душащего природу «железа-исполина». Есть также образы, сформированные в рамках национальной культуры. В унисон есенинскому образу «золотой бревенчатой избы» звучит образ юрты у Мунко Саридака: «Вот восьмипалой кистью / прощается юрт синь…» [7, с. 10–11] Этот образ отражает реалии быта, уже не войлочные, а восьмистенные деревянные юрты, которые строились бурятами в начале ХХ в. Есть в творчестве Мунко Саридака и стихотворение-посвящение «Есенину», которое показывает, какое значение придавал бурятский поэт личности и творчеству русского поэта. Оно написано как непосредственный отклик на гибель поэта в форме обращения: «У жизни, / Кому-то весело гостить / И наливаться спелым плодом…/ Не ты ли, / Не давши лирике цвести, / ушел из жизни черным ходом» [7, с. 14]. Жанр посвящения есть и в творчестве другого бурятского русскоязычного поэта 1920-х гг. Солбонэ Туя, так, его стихотворение «Песня об орленке» имеет посвящение «Певцу грозы и бури М. Горькому» [8, с. 39]. В ткань произведения Солбонэ Туя включены отрывки из «Песни о соколе», «Песни о буревестнике» М. Горького, осмысливается пафос революционного переустройства жизни. Бурятским творческим деятелям того времени было хорошо известно письмо М. Горького от 19 мая 1925 г., адресованное Эрдэни Ба-тухану, буряту по происхождению, занимавшему в те годы пост министра просвещения МНР. В нем М. Горький писал из Сорренто: «Но насколько я могу судить о душе монгола по книгам, прочитанным мной о Монголии, я думаю, что наиболее полезна была бы вашему народу проповедь принципа активности. Именно активному отношению к жизни Европа обязана всем тем, что в ней прекрасно и достойно усвоения всеми расами» [9, с. 141]. В. Ц. Найдаков отмечает, что в те годы начинает развиваться переводное дело, переводят многих русских писателей, в их числе произведения М. Горького, что способствовало становлению литературного процесса. Переводные произведения, по мнению литературоведа, становились школой мастерства. «Обогащая духовный мир бурят постижением культурных ценностей, созданных человечеством, они содействовали развитию в бурятском народе великого чувства интернационализма, глубокого уважения к культуре других народов» [5, с. 38]. Идея интернационализма входи- ла в идеологию советского государства с самых ранних этапов и способствовала развитию межкультурной коммуникации и диалога культур.
Диалог отражает процесс взаимодействия и предполагает наличие общих начал. Общую зону для развития диалога можно проследить и в русской литературе Бурятии 30-х гг. ХХ в. Таково обращение к тексту бурятской культуры, к истории бурят в стихотворении «Доржи Банзаров» Семена Дунаева, признанного переводчика бурятских поэтов. В нем реализуется принцип познания чужого через свое, так, поэт пишет: « Впервые здесь бурятский Ломоносов / Прислушивался к тайнам строгих гор». Автор прослеживает путь бурятского ученого в науку: «Нелегкий путь от юрты до Казани, но он прошел»; «ученый мир увидел в нем собрата, / наука — вдохновенного творца » [4, с. 16].
Обращение к бурятской культуре выделяется и в творчестве Елены Хорин-ской (Котвицкой) (1909–2010), которая напишет впоследствии: «Бурятия, ты и жить и петь меня учила». Сам псевдоним поэтессы объясняется биографией, семь лет, прожитых в хоринском селе Хасуурта, остались в памяти поэтессы как самая счастливая пора. В марте 1934 г. был первый республиканский съезд писателей Бурятии (Хоринская была в президиуме, и потом делегатом на Всесоюзном съезде), Е. Хоринская представила поэму «Ханда» о бурятской женщине, она была напечатана в первом номере альманаха «Весна республики». Исследователь отмечает, что «в ней зафискирован быт бурят до и после революции. Хо-ринскую волнует судьба бурятской женщины. Проданная отцом за богатый калым, девушка бежит из родного дома, батрачит на кулака. Революция, ворвавшаяся в жизнь степняков, гражданская война круто изменяют поведение Ханды. Преодолев извечную восточную покорность женщины судьбе, она становится активным участником борьбы, работает, учится (« И слились в огне работы спешной / Фабрика, станок, ячейка и рабфак), мечтает о счастье с любимым человеком » [6, с. 76].
В творчестве Е. Хоринской, которая уехала из Бурятии, навсегда остается образ ее природы и реалии, отразившиеся в лексике стихотворений: « Ветер весенний, бродяга разгульный, Снова в таежные мчится края, А на горах расцветает багульник, Нет, не багульник — юность моя… / Помним, что много на склонах ургулек, / берег байкальский, родные края. / Там расцветает весною багульник, — / дальняя юность моя и твоя » [12, с. 47].
А. К. Паликова в книге литературных очерков «Живи, наша память, живи» пишет следующее: «Елена Евгеньевна многое сделала для популяризации творчества талантливейшего бурятского поэта Бараса Халзанова. Благодаря ее переводам он стал доступен для русскоязычного читателя. Восточные мотивы, образы в ранних стихах поэтессы появлялись на уровне отдельных имен, географических понятий (Селенга, Ханда, Солбонэ Туя), а переводы ей удались потому, что она хорошо знала быт, обычаи, фольклор бурят и потому, что Б. Халзанов и его творчество близки ей по мирочувствованию, по эстетическим и нравственным позициям, потому что она как поэт, сумела проникнуть в тайну бурятского стиха» [6, с. 126].
В 1950–1960-е годы существенным результатом диалога стало освоение в бурятской литературе жанра романа. Известно, что автор первого бурятского бурятского романа Ж. Тумунов говорил: «Непосредственным поводом для работы над романом “Степь проснулась” явился “Тихий Дон”. Он привлек меня полнотой охвата жизни, богатством красок, многообразием человеческих судеб, исторических проблем, связанных в одном едином узле гражданской войны» [3, с. 83]. В становлении бурятского романа, несомненно, сказалось знакомство с произведениями русской и мировой литературы, которое происходило как на родном языке, благодаря переводам, так и на русском. Освоение личностной проблематики, раскрытие эволюции личности в романе становятся важным шагом в развитии национальной литературы.
В 2021 г. были впервые опубликованы дневники выдающегося поэта Д. Улзытуева (1936–1972), изданы тетради 1957–1958 гг. и 1969–1970 гг. В дневниках поэта, написанных в годы учебы в Литературном институте в Москве, можно увидеть, как активно осваивал бурятский поэт опыт русской и мировой поэзии. Так, первый дневник открывается эпиграфом из стихотворения А. Блока «В кабаках, в переулках, в извивах…». Сами дневники написаны на бурятском языке, стихотворения приводятся на языке оригинала: «…Энэ үдэрнүүдтэ А. Блогые ехэтэ hонирхон уншажа байнаб. “Город мой” гэжэ ном бороото үдэр Москвагай нэгэ киоскоhoo абажа, метро тээшэ гүйнэб…» [10, с. 6]. (В эти дни с большим интересом читаю Блока. Купил в один из дождливых дней в одном из московских киосков книгу «Город мой» и бегу по направлению к метро).
«Д. Улзытуев упоминает в своем дневнике не только классиков литературы, таких как Пушкин, Гоголь, Блок, у которых учится мастерству, но и многих известных поэтов и писателей эпохи 1950–1960-х, с которыми он был непосредственно знаком, дружил (Е. Евтушенко, Я. Смеляков, С. Куняев, бурятские писатели Д. Жалсараев, Д. Дамбаев, Д. Батожабай, Ч.-Р. Намжилов, С. Ангабаев и др.)», — отмечает исследователь [11, с. 328]. В дневниках отразился процесс рецепции культур разных народов мира, в них вошли переводы Д. Улзытуева из японской и китайской поэзии.
Яркий пример межкультурной коммуникации и синтеза художественных традиций — роман В. Митыпова «Долина бессмертников» (1975). Текст этого русскоязычного романа вбирает в себя множество цитат, аллюзий, реминисценций мировой литературы. Диалог культур Запада и Востока осуществляется в нем через переведенные на русский язык произведения и через тексты русской литературы. В основе же романа интерес писателя к истории родного края. В романе «Долина бессмертников» особая структура времени, в перекличках прошлого и современности звучит тема исторической памяти.
Роман И. Калашникова «Жестокий век» (1978) является ярким свидетельством диалогического поля литературы Бурятии, примечателен сам факт обращения русского писателя к истории монгольского народа, к культовой для монгольских народов личности Чингисхана. Интерес к национальной истории бурят-монголов у русского писателя родом из сибирских старообрядцев мог возникнуть только в ситуации перекрестка культур, взаимодействия различных творческих потоков.
Встречное движение в литературе региона — это интерес русских поэтов и писателей Бурятии к творчеству бурятских художников. Это сказалось, в частности, в переводческой деятельности поэтов В. Липатова, А. Румянцева в 70–80-е гг. ХХ в. Прекрасное знание реалий национальной культуры, понимание особенно- стей бурятского художественного мышления позволили им постичь произведения бурятских поэтов и познакомить с их творчеством широкую публику. Литературно-критическая деятельность народного поэта Бурятии Андрея Румянцева началась в советское время и была успешно продолжена в начале XXI в.
Все это позволяет говорить о том, что диалог культур в литературном процессе Бурятии имеет свои традиции, и есть все предпосылки для их продолжения. Развитие литературного сознания — диалектический процесс, в котором, с одной стороны, есть периоды погружения и углубления в сферу национального, с другой — на определенном этапе возникает потребность раздвижения границ и открытия новых горизонтов. Взаимодействие различных художественных традиций может стать важным фактором дальнейшего развития литературы региона.
Список литературы Диалог культур в литературном процессе Бурятии ХХ в
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972. 470 с. Текст: непосредственный.
- Гринцер П. А. Две эпохи романа. // Генезис романа в литературах Азии и Африки. Москва, 1980. С. 3–44. Текст: непосредственный.
- Дугар-Нимаев Ц.-А. Жамсо Тумунов // Бурятские писатели: труды. Улан-Удэ, 1968. Вып. 9. 156 с. Текст: непосредственный.
- Дунаев С. Доржи Банзаров // Таежная, озерная, степная… Улан-Удэ: Республиканская типография, 2012. Т. 13. С. 16. Текст: непосредственный.
- Найдаков В. Ц. О некоторых традициях М. Горького в бурятской литературе // Традиции и современность в бурятской литературе. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. С. 29–46. Текст: непосредственный.
- Паликова А. К. Живи, наша память, живи. Литературные очерки. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. 216 с. Текст: непосредственный.
- Саридак Мунко. Стихотворения, статьи. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1982. 96 с. Текст: непосредственный.
- Солбонэ Туя. Моя совесть чиста. Избранные стихи, статьи. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1992. 100 с. Текст: непосредственный.
- Труды БКНИИ СО АН СССР. Сер. Востоковедная / под редакцией Г. Н. Румянцева [и др.]. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. Вып. 8. С. 141. Текст: непосредственный.
- Улзытуев Д. А. «Yнгэрнэ үлхөө үдэрнүүд…»: ажабайдалай дэбтэрнүүд (1957–1958; 1969–1970 онууд). Улаан-Yдэ: Уласай хэблэлэй үйлэдбэри, 2021. 248 н.
- Халхарова Л. Ц. Личность и эпоха в дневниках Д. Улзытуева // Русская литература ХХ–ХХI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения): материалы VII Международной научной конференции. Москва: МАКС Пресс, 2020. С. 326–329. Текст: непосредственный.
- Хоринская Е. Стихи // Таежная, озерная, степная… Улан-Удэ: Республиканская типография, 2012. Т. 13. С. 45–48. Текст: непосредственный.