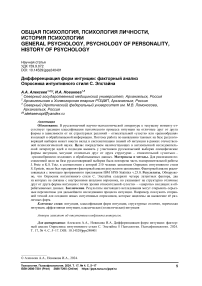Дифференциация форм интуиции: факторный анализ опросника интуитивного стиля С. Эпстайна
Автор: Алексеев А.А., Новикова И.А.
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии
Статья в выпуске: 4 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Обоснование. В русскоязычной научно-психологической литературе к текущему моменту отсутствует традиция классификации психического процесса интуиции на отличные друг от друга формы в зависимости от их структурных различий - относительной «узости» или «разнообразия» входящей и обрабатываемой информации. Поэтому работа по выявлению таковых на базе русскоговорящей выборки может внести вклад в систематизацию знаний об интуиции в рамках отечественной психологической науки.
Интуиция, классификация форм интуиции, структурные отличия, эврическая интуиция, аффективная интуиция, классическая (холистическая) интуиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147247644
IDR: 147247644 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.14529/jpps240401
Текст научной статьи Дифференциация форм интуиции: факторный анализ опросника интуитивного стиля С. Эпстайна
Посвященные интуиции англоязычные научно-психологические статьи, как правило, начинаются с обозначения ее общепринятых для западного ученого сообщества концептов. Например, Dane и Pratt приводят таблицу, которая «суммирует» определения интуиции наиболее «крупными» ее исследователями, такими как Jung, Simon, Westcot, Kahneman, Reber, Bowers, Epstain. Можно сказать, что, в соответствии с мнениями указанных авторов, интуиция определяется как форма неявного знания без актуальной возможности объяснить, откуда оно происходит, как способность к имплицитному обнаружению, усвоению, обработке информационных паттернов, а также к вынесению относительно правильных суждений на основе фрагментарных входящих данных [1].
Классики отечественных научнопсихологических исследований интуиции суммарно заключают, что интуитивная обработка информации представляет собой «мгно- венное», «свернутое» и «редуцированное» формирование интегративного образа, характеристики или понятия неосознаваемым образом, путем «перескакивания» этапов строгого логического вывода [2–5].
Нужно заметить, что и отечественные, и англоязычные определения интуиции одинаково говорят о проблематичности ее рационального познания. Действительно, как можно рационализировать психический процесс, который по определению бессознателен, имплицитен и алогичен? Последнее с точки зрения некоторых исследователей чревато, с одной стороны, расширением концепции интуиции до «всеобъемлющих» объемов, с другой – ее мистификацией и включением в спектр с трудом верифицируемых явлений1. В этом контексте изначальной неопределенности важ- ную роль в рациональном познании интуиции может играть дифференциация и классификация различных форм ее течения [6].
Обзор литературы
В рамках англоязычной научно-психологической традиции попытки выделить различные формы интуиции производились неоднократно. В этом отношении дифференциацию различных форм интуиции R. Hogarth называет «самой большой проблемой, которая заключается в определении более точных способов классификации различных типов интуитивных явлений». A. Glöckner и C. Witteman указывают, что интуиция принципиально не является единой конструкцией. Авторы дополняют, что такая классификация может быть произведена на основании того, какие данные входят и обрабатываются в ту или иную форму интуиции [7].
В англоязычном исследовательском поле выделены две глобальные формы течения интуитивного процесса: интуиция в формате эвристики, а также классическая ее форма, которую J. Pretz именует «холистическая» [8]. Согласно R. Hogarth, основой для понимания интуиции в формате эвристики явилась концепция ограниченной рациональности Н. Simon. Ключевая идея состоит в том, что чаще всего люди не способны выполнить полный рациональный анализ ситуации при решении какой-либо задачи, поэтому прибегают к механизмам экономии рациональных ресурсов. На базе этой концепции A. Tversky и D. Kahneman описали интуицию как эвристику – особый тип автоматического стереотипного умозаключения, нацеленного именно на экономию интеллектуальных ресурсов и совершающегося подобно когнитивной предвзятости на основании многократных предшествующих повторений [9, 10].
M.R. Westcott (1968) одним из первых исследовал эвристическую форму интуиции экспериментально. Участники его исследования должны были решить головоломку, при этом каждый мог получить подсказку. Те, кому требовалось меньше подсказок для того, чтобы совершить эвристический скачок к решению, – считались более интуитивными. Согласно заключениям M.R. Westcott, акты интуиции – это аналитические эвристические суждения, эффективность и быстродействие которых зависят от сформированности предшествовавших тематических автоматизмов [11, 12].
Общим теоретико-методологическим основанием для исследований эвристического формата интуиции в англоязычной литературе являются различные варианты модели двойной обработки информации. В самом базовом виде они предполагают существование двух систем обработки данных: интуитивная, эвристическая система «1», которая функционирует быстро и без усилий, и преднамеренная, аналитическая система «2», которая действует медленно в соответствии с правилами логики. Например, модель «вмешательства» предусматривает, что когда люди сталкиваются с ситуативными трудностями, то обычно полагаются на быструю интуитивную систему «1» для генерации ответа. Однако для корректировки работы интуитивно-эвристической системы они могут переходить к логическому анализу проблемы посредством системы «2» [13]. Быстродействие и возможность первичного включения интуитивной системы «1» в сравнении с аналитической системой «2» являются парадигмально-определяющими для многих современных исследований эвристического типа интуиции [14–16].
Как бы там ни было, K. Mudyn (2024) призывает не абсолютизировать эвристический формат интуиции, поскольку он обладает специфическим ограниченным функционалом – работа эвристической интуиции связана с относительно простыми задачами, которые не имеют личного значения для человека [17].
Также необходимо заметить, что в рамках модели двух альтернативных систем обработки информации S. Epstein описал интуитивную форму [18], которую позже J. Pretz и K. Totz определили как «аффективную интуицию». Суть в том, что аффективная интуиция – это способ обработки данных, который подобно классической эвристике совершается стереотипно и имплицитно, но в отличие от последней активируется «гедонистическим принципом» – посредством ярких эмоций [19].
O.W. Hill (1987) выделил две формы интуиции: логическую и классическую. Так, логическую интуицию он отождествил с эвристикой, быстродействие и автоматизм которой обусловлен стереотипной сформирован-ностью предшествующей практики. Напротив, интуиция классического типа определена им как синтетическое суждение, которое интегрируют множество различных сигналов в единое целое. Эти сигналы могут быть как осознаваемыми, так и имплицитными по сво- ей природе [20]. Относительно классической (холистической) формы интуиции E. Sadler-Smith и E. Shefy (2007) замечают, что её выводы основаны не на объединении отдельных когнитивных элементов, но на синтезе различных систем обработки информации, включающих в себя потенциально больший объем данных [21]. K. Mudyn указывает еще на одно отличие классической формы интуиции от эвристической – классическая не совершается темпорально реактивно, но предполагает различную по длительности фазу инкубации, которая предшествует появлению ключевой идеи или решения.
Согласно K. Bowers, тест отдаленных ассоциаций (Remote Associates Test) может демонстрировать работу интуиции классического типа, когда подбор четвертого слова в ряду относительно связанных между собой трех предыдущих является результатом распространения сети вербальных ассоциативов, что структурно не может быть уложено в стандартную эвристику, но, скорее, походит на целостную интеграцию сигналов [22]. Кроме того, данные исследований последних лет показывают, что темпорально отличные формы интуиции могут быть стимулированы в экспериментальных условиях посредством манипулирования, связанными с эмоциями воспоминаниями, требованиями обосновать собственные решения, применением финансового поощрения [23, 24].
На основании вышеизложенного мы полагаем, что в рамках англоязычной научнопсихологической традиции могут быть отчетливо выделены три формы интуиции, которые отличаются друг от друга участием в них либо относительно «узкого» перечня данных – сформированных интеллектуальных или аффективных автоматизмов, либо относительно их «широкого» перечня, который предполагает синтез различных систем обработки информации. В этом контексте уместно предположить, что в эвристический формат интуиции может входить и обрабатываться относительно меньший объем данных. В аффективном к стандартному эвристическому объему данных в обработку может поступать выраженный аффективный компонент, а классическая форма интуиции может характеризоваться поступлением относительно большего объема данных и систем их обработки. Мы полагаем, что методологически такого рода принцип классификации отсылает к особенностям структуры потенциально отличных друг от друга форм интуиции, поэтому, мы полагаем, его уместно назвать структурным [25].
Наше предположение, согласно которому различные формы интуиции могут отличаться с точки зрения объема данных и систем их обработки, не является новым для англоязычной научно-психологической литературы. Например, A. Glöckner и C. Witteman (2010) вводят понятие «интуитивные режимы», которое говорит о том, что в основании различных форм интуиции могут лежать несколько типов когнитивных процессов от относительно простых до относительно сложных [7]. Так, относительно простые формы интуиции могут быть основаны на процессе обуславливания в сочетании с переживанием аффектов. Более сложные формы могут иметь основания в автоматической интеграции ассоциативного обучения и ментальных представлений.
Что касается русскоязычной научнопсихологической традиции, то в литературе советского периода обсуждение получила возможность разделения форм интуиции в соответствии с их участием в «масштабных» познавательных процессах – чувственная и интеллектуальная интуиция. Данная дифференциация имеет философские корни и впервые была предложена В.Ф. Асмусом [26]. Если сохранять внимательность к текстам советских психологов, то можно заметить сдержанность и определенный скепсис по поводу такого подхода. Например, А.А. Нальчаджян (1972) пишет о проблематичности разделения чувственной и интеллектуальной интуиции на отдельные формы из-за невозможности гипостазировать «чистое» восприятие отдельно как от элементарных мыслительных процессов (анализ и синтез), так и от суммы сложного интеллектуального опыта (знаний, взглядов, интересов) ввиду его апперцептивности самого восприятия [2].
Современные российские исследования, мы полагаем, подходят к интуиции как к чему-то «монолитному», без обсуждения вопроса ее дифференциации на возможные формы. Наглядным примером такого подхода, по нашему мнению, является сформированная за последние 20 лет традиция изучения интуиции как компонента принятия решений, которая представлена работами Т.В. Корниловой, О.В. Степаносовой, В.И. Васильевой, П.Е. Григорьева, а также А.Ю. Разваляевой.
Суть в том, что как компонент личностноинтеллектуальной регуляции субъектных выборов и мотивации к ним интуиция не рассматривается указанными авторами дифференцированно в той или иной из ее возможных форм, но охватывается единым конструктом интуитивного стиля С. Эпстайна. В связи с этим практические части исследований Т.В. Корниловой, О.В. Степаносовой и А.Ю. Разваляевой строятся по преимуществу как соотнесение шкал русифицированной версии опросника С. Эпстайна. с другими опросниками, такими как «Личностные факторы принятия решений» – ЛФР, «Опросник рефлексивности» Карпова, «График личностных предпочтений» Эдвардса и прочими2 [27].
В.И. Васильева с соавторами (2017) вышеуказанного отождествления с моделью С. Эпстайна не проводят, но как компонент саморегуляции профессиональной деятельности также рассматривают интуицию в отрыве от ее возможной дифференциации. Для реализации практической части исследования авторы предлагают собственную методику – «Опросник интуиции в самореализации деятельности», шкалы которого повторяют структуру, предложенную О.А. Конопкиным: 1) постановка цели; 2) принятие модели значимых условий; 3) построение программы исполнительских действий; 4) контроль, оценка результатов и выделение критериев достижения цели; 5) принятие решения о коррекции. А также и три субшкалы, описывающие интуицию в контексте разных интенций: субъект-субъектных, самосубъектных и субъ-ект-объектных [28].
Современные российские исследователи иногда затрагивают проблему многообразия видов интуиции. Например, И.В. Васильева (2017) указывает на многообразие видов ин-туиционных феноменов, в ряду которых упоминает: антиципацию, вероятностное прогнозирование, имплицитное мышление, «потенциальные программы действия» и «концепцию включения при принятии решений». Также она упоминает различные виды профессиональной интуиции: научной, творческой, врачебной, спортивной, педагогической и прочих. Мы полагаем, что такого вида классификации основываются, скорее, на конста- тации феноменологического и содержательного многообразия интуиции, нежели на установлении их универсальных отличий с точки зрения структуры. Также интересным представляется тезис некоторых авторов о том, что исследования феноменологического разнообразия интуиции должно сопровождаться сменой методологии классического рационализма в пользу методологии неклассической и постнеклассической рационально-сти3 [29].
Можно констатировать, что в русскоязычной научно-психологической литературе тема дифференцирования форм интуиции в соответствии с их структурными отличиями не является сколь-либо развитой. В этой связи мы допускаем, что попытки выявить таковые среди участников русскоговорящей выборки могут внести вклад в систематизацию знаний об интуиции для отечественной психологической науки.
Цель настоящего исследования заключается в том, что посредством наличествующих в англоязычной исследовательской литературе идей и подходов выявить у участников русскоязычной выборки специфические формы интуиции, могущие отличаться друг от друга структурно – относительной «узостью» – «разнообразием» входящих и обрабатываемых данных.
Для реализации указанного направления исследовательской работы мы предлагаем воспроизвести в рамках русскоговорящей выборки часть эксперимента J. Pretz и K. Totz (2007), согласно которому отдельные формы интуиции, отличающиеся друг от друга узостью – широтой входящих и обрабатываемых данных, известных как эвристическая, аффективная и классическая (холистическая) интуиция, могут быть обнаружены на уровне факторного анализа ряда посвященных интуиции опросников [8].
Сами J. Pretz и К. Totz осуществили факторный анализ, а также корреляционный анализ шкал двух опросников: Опросника интуитивного стиля С. Эпстайна и опросника «Индикатор типов Майерс – Бриггс» (MBTI). В свою очередь для достижения отчетливых результатов нами было принято решение сузить исследовательское пространство факторным анализом Опросника интуитивного стиля С. Эпстайна. Суть в том, что валидность последнего никогда не подвергалась сомнениям, в то время как надежность индикатора типов Майерс – Бриггс (MBTI) активно дискутируется в научной литературе. Например, D.J. Pittenger (2005) указывает на проблематичность размежевания и интерпретации шкал этого опросника и высокую вероятность получения иных результатов после повторного заполнения. Все это, по его мнению, связано с отсутствием бимодального распределения баллов между группами предпочтений и высокой частотой выборов в средней точке [30].
Материалы и методы
Нами была набрана группа добровольцев – 210 человек. В выборку вошли 172 женщины и 38 мужчин, средний возраст которых составил 36,7 года. Участники исследования заполнили Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна в адаптации Т.В. Корниловой и А.С. Корнилова, состоящий из 20 пунктов. Ответы респон- дентов на пункты опросника, согласно его внутренней структуре, представляли степень их согласия – несогласия по 5-балльной шкале Ликкерта. По замыслу С. Эпстайна пункты оп- росника разделяются на две независимые шкалы, которые должны исключать повторяющиеся пункты. Одна шкала – «способность к интуиции», другая – «использование интуиции».
Для выявления искомых форм нами был предпринят факторный анализ результатов заполнения опросника в программном приложении IBM SPSS Statistics 23.0. В начале полученные данные проверены в соответствии с мерой адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина (КМО = 0,914 > 0,5), что свидетельствует о возможности проведения факторного анализа; результат теста сферичности Барлетта удовлетворительный (Хи-квадрат = 1554,963 при р < 0,001), указывает, что влияющие на предпочтения гипотетические факторы не демонстрируют высокой корреляции. Факторный анализ был реализован посредством метода факторизации главной оси» (Principal Axis Factoring, PAF) в сочетании с вращением промакс» (Promax).
Результаты
Анализ матрицы факторных нагрузок (табл. 1) выявил, что в основании выборов участников исследования могут лежать 4 фактора, которые объясняют 44,43 % общей дисперсии. Коэффициент альфа Кронбаха выявленных факторов составил: фактор 1 = 0,853; фактор 2 = 0,675; фактор 3 = 0,444; фактор 4 = 0,703.
Каждый из четырех выделенных факто- ров характеризуется пунктами опросника (см. табл. 1). При этом разделение пунктов по указанным факторам лишь отчасти повторяет авторскую структуру, которая связана с раз- делением пунктов опросника по шкалам «способность к интуиции» и «использование интуиции». Так, пункты, вошедшие в фактор 2, находятся строго в рамках шкалы «использование интуиции», а пункты фактора 3 – строго в границах шкалы «способность к ин-
Таблица 1
Table 1
Матрица факторных нагрузок результатов заполнения Опросника интуитивного стиля С. Эпстайна Factor loading matrix for the Rational-Experiential Inventory
|
Пункты опросника / Items |
Факторы / Factors |
|||
|
1. Если бы я полагался на свое инстинктивное чувство, то я бы часто делал ошибки. |
||||
|
2. Я, как правило, не полагаюсь на помощь чувств при принятии решений. |
||||
|
3. Что касается доверия людям, я обычно могу положиться на свое внутреннее чутье. |
0,630 |
|||
|
4. Я люблю полагаться на собственные интуитивные впечатления. |
0,527 |
|||
|
5. Я убежден, что стоит доверять собственным предчувствиям. |
0,486 |
|||
|
6. Я полагаю, что глупо принимать важные решения, основываясь на ощущениях. |
0,568 |
|||
|
7. Я подозреваю, что мои предчувствия оправдываются и не оправдываются одинаково часто. |
||||
|
8. Я бы не хотел зависеть от того, кто считает, что он или она обладает интуицией. |
0,606 |
|||
|
9. Обычно я могу почувствовать, когда человек прав или неправ, даже если я не могу объяснить, откуда я это знаю. |
0,537 |
|||
Окончание табл. 1
Table 1 (end)
|
Пункты опросника / Items |
Факторы / Factors |
|||
|
10. Я часто следую своим инстинктам, когда выбираю, как поступить. |
0,637 |
|||
|
11. Мои скоропалительные выводы, наверное, не столь хороши, как у большинства людей. |
0,454 |
|||
|
12. Мне не нравятся ситуации, в которых я вынужден полагаться на интуицию. |
||||
|
13. Я доверяю своим первоначальным впечателениям о людях. |
||||
|
14. Я не думаю, что полагаться на интуицию во время принятия важных решений – это хорошая идея. |
0,827 |
|||
|
15. У меня не очень хорошо развита интуиция. |
0,549 |
|||
|
16. Я считаю, что бывают ситуации, когда приходится полагаться на свою интуицию. |
0,564 |
|||
|
17. Инстинктивные чувства обычно помогают мне находить решения жизненных проблем. |
0,793 |
|||
|
18. Я склонен выбирать те действия, которые мне подсказывает сердце. |
0,722 |
|||
|
19. Я практически никогда не ошибаюсь, когда в поисках ответа прислушиваюсь к своим сокровенным предчувствиям. |
0,470 |
|||
|
20. Интуиция может быть очень полезным способом решения проблем. |
||||
Примечание . Коэффициенты со значением меньше 0,4 не указан ы.
Note. Coefficients with a value less than 0.4 are not specified .
туиции». Примечательной и общей особенностью для пунктов фактора 2 и фактора 3 является также то, что все они имеют негативное содержание – отрицание интуиции.
Пункты фактора 1 и фактора 4 предоставляют несколько иные данные. Суть в том, что эти факторы нарушают авторскую структуру опросника, поскольку сочетают в себе пункты, относящиеся к разным внутренним шкалам (табл. 2), которые, в свою очередь, не предполагают пересечения.
Обсуждение
Пункты фактора 1 могут быть проинтерпретированы таким образом, что в их контексте интуиция подается как некий стереотипный опыт и своего рода привычка. Семантический анализ пунктов фактора 1 показывает, что каждый пункт начинается со слов, которые обобщают сферу субъективного опыта: «обычно», «я часто», «я считаю», «я склонен», «я практически никогда». При этом все указанные лексические конструкции не выражают сколь-либо яркой эмоциональной составляющей. В пунктах этого фактора интуиция часто представлена как «инстинкт». Что касается пунктов фактора 2, можно указать, что они также говорят о некоем привычном интуитивном опыте, однако транслируют его и начинаются с лексических единиц, которые наполнены более яркой эмоциональной и личной составляющей: «доверия людям», «я люблю», «я убежден».
Если учитывать указанную особенность пунктов фактора 1 и фактора 4, то можно предположить, что фактор 1 демонстрирует интуицию как эффективный психический процесс, который обусловлен сформирован-ностью предшествующих автоматизмов или привычек. Фактор 4 фактически говорит о том же самом, однако в его рамках появляется более выраженный аффективный компонент, который сопровождает интуицию. Таким образом, можно допустить, что факторный анализ указывает на две формы интуиции, отличающиеся друг от друга структурно. Фактор 1 указывает на форму интуиции, которая может характеризоваться относительно меньшим перечнем обрабатываемых данных – аффективно нейтральных автоматизмов. Фактор 4 указывает на форму интуиции, которая может быть характеризована большим перечнем данных и систем их обработки – аффективно нагруженными привычками и автоматизмами. Также можно предположить, что фактор 1 указывает на эвристическую форму интуиции,
Таблица 2
Table 2
Распределение пунктов фактора 1 и фактора 4 относительно внутренних шкал опросника «способность к интуиции» и «использование интуиции»
Distribution of items of factor 1 and factor 4 relative to the internal scales of the questionnaire
“ability to intuition” and “use of intuition”
Полученные результаты в целом повторяют результаты исследования J. Pretz и K.S. Totz (2007), в рамках которого также производился факторный анализ посвященных интуиции шкал опросника S. Epstain. Тогда авторы пришли к факторной структуре, которая также лишь отчасти совпадает с авторскими шкалами опросника [8], c той разницей, что факторная структура Опросника интуитивного стиля С. Эпстайна в рамках настоящего исследования предполагает четырехфакторное решение, в то время как факторная структура, предложенная J. Pretz и K.S. Totz, является трехчастной.
J. Pretz и K.S. Totz указывают, что из трех факторов лишь фактор 1 полностью состоит из пунктов шкалы «способность к интуиции», остальные с авторскими шкалами не совпадают и являют дополнительные аспекты ин туиции. Например, фактор 2 слагается из 12
пунктов типа «Я склонен выбирать те действия, которые мне подсказывает сердце», которые демонстрируют наличие выраженного эмоционально-аффективного компонента интуиции. Наконец, фактор 3 состоит из пунктов, которые являют «обезличенный» образ интуиции как стереотипного действия. Выводы J. Pretz и K.S. Totz фактически являются симметричными выводам настоящего исследования: посвященные интуиции авторские шкалы REI не говорят об единственном конструкте, но латентно проводят различие между аффективной и эвристической формами интуиции помимо упоминания классической интуитивной формы.
Примечательно, что ранее Т.В. Корнилова и А.Ю. Разваляева проводили факторный анализ посвященных интуиции шкал в рамках апробации русскоязычной версии полной версии опросника С. Эпстайна «рациональный – опытный». Авторы сообщили лишь о несоответствии двух пунктов начальному ключу опросника. Латентные факторы, могущие лежать в основе выборов респондентов и указывающие на неоднородность интуиции, авторами попросту не были упомянуты. Также не был произведен семантический анализ пунктов, входящих в состав выявленных факторов [31]. Данная особенность, вероятно, может быть объяснена указанной выше методологической позицией Т.В. Корниловой и А.Ю. Разваляевой, согласно которой интуиция охватывается единым конструктом интуитивного стиля С. Эпстайна. Как бы там ни было, симметричность результатов настоящего исследования результатам исследования J. Pretz и K.S. Totz может быть веским основанием для дальнейшего углубленного изучения возможных форм интуиции на основании их структурных отличий.
Заключение
Факторный анализ показал, что Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна содержит в себе четыре латентных фактора, в соответствии с которыми распределены выборы участников исследования. При этом полученные факторы превосходят структуру внутренних шкал опросника, а именно лишь пункты факторов 2 и 3 в аспекте отрицания находятся в рамках шкал «использование интуиции» и «способность к интуиции», в то время как пункты факторов 1 и 4 поочередно совмещают в себе шкалы опросника и утвердительно указывают на структурно отличные формы интуитивного процесса. Пункты фактора 1 демонстрируют интуицию как психический процесс, который обусловлен сформирован-ностью предшествующих автоматизмов и привычек. Фактор 4 фактически говорит о том же самом, однако в его рамках появляется выраженный аффективный компонент, который сопровождает интуицию. В соответствии с этим был сделан вывод, что фактор 1 выявляет эвристическую, а фактор 4 аффективную форму интуитивного процесса, которые могут отличаться друг от друга относительной «узостью» – «разнообразием» входящих и обрабатываемых данных.
Результаты представленного исследования могут открывать серьезные перспективы для дальнейшего исследования процесса интуиции в рамках отечественной научной психологии. Во-первых, обнаружение латентных факторов, которые указывают на различные формы интуиции, отличающиеся друг от друга структурно и не совпадающие с внутренними шкалами Опросника интуитивного стиля С. Эпстайна, может стимулировать более критичное отношение к возможностям самого опросника. А именно, что Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна не может являться индикатором единого конструкта – некоей «общей интуиции». Во-вторых, полученные данные могут стимулировать дальнейшие исследования по классификации форм интуиции, исходя из относительной «узости» или «разнообразия» входящих и обрабатываемых данных. В-третьих, полученные данные могут послужить отправной точкой для создания новых опросников, которые нацелены на выявление различных форм интуиции.
Список литературы Дифференциация форм интуиции: факторный анализ опросника интуитивного стиля С. Эпстайна
- Dane E., Pratt M.G. Exploring intuition and its role in managerial decision making // Academy of Management Review. 2007. Vol. 32 (1). P. 33–54. DOI: 10.5465/AMR.2007.23463682.
- Нальчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. М.: Мысль. 1972. 271 с.
- Лук А.Н. Мышление и творчество. М.: Изд-во политической литературы. 1976. 144 с.
- Родионова И.К. О природе интуиции // Проблема отражения и современная наука. М. 1967. С. 34–48.
- Науменко Е.А. Введение в теорию интуиции и интуитивности. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета. 2013. 212 с.
- Hogarth R.M. Intuition: A challenge for psychological research on decision making // Psychological Inquiry. 2010. Vol. 21 (4). P. 338–353. DOI: 10.1080/1047840X.2010.520260.
- Glöckner A. Witteman C. Beyond dual-process models: A categorisation of processes underlying intuitive judgment and decision making // Thinking and Reasoning. 2010. Vol. 16 (1). P. 1–25. DOI: 10.1080/13546780903395748.
- Pretz J., Totz K.S. Measuring individual differences in affective, heuristic, and holistic intuition // Personality and Individual Differences. 2007. Vol. 43 (5). P. 1247–1257. DOI: 10.1016/j.paid.2007.03.015.
- Tversky A. Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases // Science. 1985. Vol. 185. P. 1124–1131. DOI: 10.1126/science.185.4157.1124.
- Fiedler K., von Sydow M. Heuristics and Biases: Beyond Tversky and Kahnemans Judgment under Uncertainty // Cognitive Psychology: Revisiting the Classical Studies / Eds. M.W. Eysenck, D. Groome. Publ. Sage Publications. 1974. Ch. 12. P. 146–161. URL: https://www.researchgate.net/ publication/280981235_Heuristics_and_Biases_Beyond_Tversky_and_Kahnemans_1974_Judgment_under_Uncertainty#fullTextFileContent (дата обращения: 15.04.2024).
- Westcott M.R. Toward a contemporary psychology of intuition: A historical, theoretical, and empirical inquiry. 1968. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston. URL: https://archive.org/details/ towardcontempora0000west (дата обращения: 15.04.2024).
- Ghasemi O., Handley S. Logical Intuition Is Not Really About Logic // Journal of Experimental Psychology: Genral. 2022. Vol. 151 (9). P. 2009–2028. DOI: 10.1037/xge0001179.
- Bago B., De Neys W., Advancing the specification of dual process models of higher cognition: a critical test of the hybrid model view // Thinking and Reasoning. 2019. Vol. 26 (1). P. 1–30. DOI: 10.1080/13546783.2018.1552194.
- Remmers C., Zimmermann J., Topolinski S. Intuitive Judgments in Depression and the Role of Processing Fluency and Positive Valence: A Preregistered Replication Study // Clinical Psychology in Europe. 2020. Vol. 2(4). Art. ID e2593. DOI: 10.32872/cpe.v2i4.2593.
- Vieira V., da Silva V., Gabler C. The impact of intuition and deliberation on acquisition-retention ambidexterity and sales performance: comparing the Dual-Process and Uni-Process Models // Journal of Personal Selling and Sales Management. 2020. Vol. 41 (4). P. 1–14. DOI: 10.1080/08853134.2020.1845188.
- Baldacchino L., Ucbasaran D. Linking Experience to Intuition and Cognitive Versatility in New Venture Ideation: A Dual-Process Perspective // Journal of Management Studies. 2022. Vol. 60 (5). P. 1105–1146. DOI: 10.1111/joms.12794.
- Mudyń K. The place of intuition in the digitalized world // Sztuka Leczenia. 2024. Vol. 39(1). P. 39–49. DOI: 10.4467/18982026SZL.24.008.19833.
- Epstein S. Cognitive-experiential Self-theory // Advanced Personality. 1998. P. 211–238. DOI: 10.1007/978-1-4419-8580-4_9.
- Gawronski B., Luke D., Creighton L. Dual-Process Theories // The Oxford Handbook of Social Cognition. Oxford. 2024. P. 319–353.
- Hill O.W. Intuition: Inferential heuristic or epistemic mode? // Imagination, Cognition, and Personality. 1987. Vol. 7(2). P. 137–154. DOI: 10.2190/2L9K-57WM-M917-6FWN.
- Sadler-Smith E., Shefy E. Developing intuitive awareness in management education // Academy of Management Learning and Education. 2007. Vol. 6(2). P. 186–205. DOI: 10.5465/AMLE.2007.25223458.
- Maldei T., Baumann N. The Language of Intuition: A Thematic Integration Model of Intuitive Coherence Judgments // Cognition and Emotion. 2020. Vol. 34 (4). P. 1183–1198. DOI: 10.1080/02699931.2020.1736005.
- Isler O., Yılmaz O. How to activate intuitive and reflective thinking in behavior research? A comprehensive examination of experimental techniques // Behavior Research Methods. 2022. Vol. 55 (1). P. 3679–3698. DOI: 10.3758/s13428-022-01984-4.
- Isler O., Yılmaz O. Activating reflective thinking with decision justification and debiasing training // Judgment and Decision Making. 2023. Vol. 15(6). P. 926–938. DOI: 10.1017/S1930297500008147.
- Булычев И.И. О сущности, форме и содержании категории «структура» // Вестник Тамбовского государственного университета. 1998. № 2. С. 3–10.
- Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. Очерк истории: XVII – начало ХХ вв. М.: Высшая школа, 1965. 312 с.
- Корнилова Т.В. Корнилов С.А. Интуиция, интеллект и личностные свойства (результаты апробации шкал опросника С. Эпстайна) // Психологические исследования. 2013. № 28 (6). С. 1–11.
- Васильева И.В., Григорьев П.Е., Игнатов А.Н. Теоретическая модель интуиции: обоснование включенности интуиции сотрудников силовых структур в обобщенный концепт интуиции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 2 (36). С. 232–236.
- Разведочный анализ факторов интуиции / П.Е. Григорьев, И.В. Васильева, М.А. Заева и др. // Пространство и время. 2015. № 1. С. 377–382.
- Pittenger D. Cautionary comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator // Consulting psychology journal practice and research. 2005. Vol. 57(3). P. 210–221. DOI: 10.1037/1065-9293.57.3.210.
- Корнилова Т.В., Разваляева А.Ю. Апробация русскоязычного варианта полного опросника С. Эпстайна «Рациональный – опытный» (Rational – experimental inventory) // Психологический журнал. 2017. № 3. С. 92–107.