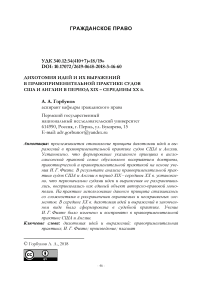Дихотомия идей и их выражений в правоприменительной практике судов США и Англии в период XIX - середины XX в
Автор: Горбунов А.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Прослеживается становление принципа дихотомии идей и выражений в правоприменительной практике судов США и Англии. Установлено, что формирование указанного принципа в англосаксонской правовой семье обусловлено восприятием доктрины, правотворческой и правоприменительной практикой на основе учения И. Г. Фихте. В результате анализа правоприменительной практики судов США и Англии в период XIX- середины XX в. установлено, что первоначально судами идеи и выражения не разграничивались, воспринимались как единый объект авторско-правовой монополии. На практике использование данного принципа сталкивалось со сложностями в разграничении охраняемых и неохраняемых элементов. В середине XX в. дихотомия идей и выражений в законченном виде была сформирована в судебной практике. Учение И. Г. Фихте было изменено и воспринято в правоприменительной практике США и Англии.
Дихотомия идей и выражений, правоприменительная практика, и. г. фихте, произведение, плагиат
Короткий адрес: https://sciup.org/147230030
IDR: 147230030 | УДК: 340.12:34(410+7)618/199 | DOI: 10.17072/2619-0648-2018-3-46-60
Текст научной статьи Дихотомия идей и их выражений в правоприменительной практике судов США и Англии в период XIX - середины XX в
В ажнейшее положение, лежащее в основе авторского права, – принцип дихотомии идей и форм их выражения. Содержание принципа: объектом охраны авторского права выступают не идеи как таковые, а их выражение. По меткому выражению судьи Верховного суда США Дж. Бреннана: «Различие между защищенными выражениями идей и незащищенными идеями является сущностью авторского права»1.
Принцип дихотомии идей и их выражения (а для романо-германской правовой семьи формы и содержания произведения) в своем первоначальном виде возник благодаря трудам представителей классической немецкой философии – И. Канта и И. Г. Фихте.
Предваряя изучение особенностей восприятия учения о форме и содержании произведения, обратимся к философско-теоретическому обоснованию рассматриваемого принципа немецкими мыслителями.
Разработка философских основ авторского права связана с именем И. Канта. Мыслитель признается одним из основоположников концепции личностного обоснования авторского права2.
Впервые И. Кант коснулся вопросов, связанных с формой произведения, в эссе «О незаконности изготовления контрафактных книг» 1785 г. В этой работе ученый обосновывал право автора контролировать использование произведения. И. Кантом была предложена дефиниция книги (как разновидности произведения). По мнению ученого, книга представляет собой речь автора, обращенную к публике3.
Важнейшие идеи о форме и содержании произведения были изложены И. Кантом в труде «Критика способности суждения» 1790 г. Размышления И. Канта о форме и содержании произведения непосредственно связаны с выделением изящного искусства как «способа представления, который сам по себе целесообразен и хотя и без цели, но все же содействует культуре способностей души для общения между людьми»4.
В контексте изучения философской системы И. Канта следует обратить внимание на его концепцию гения как создателя произведений изящного искусства. Главная отличительная черта гения-создателя произведений изящного искусства – оригинальность. Философ пришел к умозаключению, что произведения, создаваемые гением, должны являться «показательными», т.е. не должны являть собой результат заимствования, а выступать мерилом и образцом для других5.
Концептуальное значение приобретают тезисы И. Канта о различении формы и содержания произведения: «Оригинальность таланта составляет существенный (но не единственный) элемент характера гения. Гений может дать лишь богатый материал для произведений изящного искусства. Обработка его и форма требуют воспитанного школой таланта, чтобы найти для этого материала такое применение, которое может устоять перед способностью суждения»6.
Данное суждение немецкого мыслителя указывает на то, что им дифференцируются составные части произведения. Гениальность как таковая не создает произведение изящного искусства, важнейшими факторами становятся упорный труд и талант автора для придания формы произведению изящного искусства.
И. Кант рассматривает различия в красоте, встречающейся в природе и в искусстве. По мнению философа, красота природы – прекрасная вещь, красота в искусстве – прекрасное представление о вещи7.
Дифференциация состоит в том, что суждения о красоте в природе не связаны с заранее имеющимся знанием понятия того, чем должен быть предмет. И. Кант подчеркивает, что «одна лишь форма сама по себе без познания цели нравится при суждении»8.
Суждения о красоте в изящном искусстве, по мнению И. Канта, отличаются тем, что искусство всегда предполагает цель в причине, в основу суждения нужно положить понятие о том, чем должна являться вещь9. В суждении о красоте произведения искусства всегда должно приниматься во внимание совершенство вещи, т.е. соответствие многообразия в вещи внутреннему назначению ее как цели.
И. Кант приходит к умозаключению: «Прекрасное представление о предмете только форма изображения понятия, через которую это понятие приобретает всеобщую сообщаемость»10.
Придание соответствующей формы произведению связано со вкусом, с которым художник соотносит свое произведение. При этом форма – результат длительных и сложных правок, направленных на соизмерение ее с идеями автора, а вкус – это, в первую очередь, способность суждения, а не продуктивная способность, в силу чего не все, что ему соответствует есть произведение изящного искусства11.
Основой для создания произведений изящного искусства является дух, т. е. оживляющий принцип в душе. Дух – способность создания эстетических идей12.
И. Кант отмечает, что эстетические идеи отличает то, что они стремятся к тому, что лежит за пределами нашего опыта, и пытаются изобразить по- нятия разума (интеллектуальные идеи), однако эстетическим идеям не может быть адекватным никакое созерцание13.
Способностями души, которые составляют гений, как указывает И. Кант, являются рассудок и воображение. Их соотношение мыслителем определяется следующим образом: «Гений состоит, собственно, в удачном соотношении способностей, которому не может научить никакая наука и которому не может научить никакое прилежание, в способности находить для данного понятия идеи и, с другой стороны, подбирать для этих идей выражение, посредством которого вызванное этим субъективное расположение души как сопутствующее понятию может быть сообщено другим» 14.
И. Кантом представлено разграничение формы и содержания произведения. Форма и содержание произведения разграничивались И. Кантом, но в то же время способность к созданию содержания произведения и способность к приданию ему формы рассматривались в единстве, как элементы составляющие гений автора.
Отдельные мысли И. Канта, представленные в «Критике способности суждения», были в дальнейшем развиты в «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798 г.). И. Кант провел более явный водораздел между вкусом и духом: «Вкус – это не более как регулятивная способность суждения о форме при соединении многообразного в воображении; дух – это способность разума a priori давать образец для этой формы воображения»16. Дух нужен для создания идей, а вкус необходим для ограничения их ради формы, которая будет соответствовать законам продуктивного воображения, следовательно создавать их первоначально17.
Вопрос о форме и содержании произведений И. Кант рассмотрел под иным углом в «Метафизике нравов» (1797 г.). Философ определил понятие «книга» как разновидность произведения, корреспондирующее с определени- ем, представленным им в первой работе, следующим образом: «Книга – это сочинение (здесь безразлично, написано ли оно пером или напечатано, много в нем страниц или мало), представляющее речь, обращенную кем-то к публике в зримых знаках языка»18.
Анализ данного определения показывает, что философом была предпринята попытка выведения юридической дефиниции понятия книги, как разновидности произведения. Исходя из определения возможно отграничение формы произведения как проявления вовне «речи» автора, в то же время исходя из определения не следует, в каком отношении, по мнению И. Канта, находятся форма и «речь автора», какой из указанных элементов является охраноспособным.
Таким образом, И. Кант рассматривал произведение с нескольких позиций:
во-первых, с точки зрения философии и эстетики, мыслителем предложено разграничение формы и содержания произведения, показано их соотношение;
во-вторых, с точки зрения права, приведено понятие объекта авторско-правовой монополии, в то же время понятие основано на иных конструктах, чем его философско-эстетическое понимание произведения.
В наиболее разработанном виде учение о форме и содержании произведения было сформулировано И. Г. Фихте в 1791 г. в статье «Обоснование неправомерности перепечатки произведений».
Учение И. Г. Фихте основывается на том, что книга – особый предмет, который не может быть сопоставлен с другими предметами19. Мыслителем было предложено выделение в литературных произведениях двух аспектов – физического и идеального. Физический аспект составляет бумага, на которой произведение напечатано, а идеальный аспект подразделяется на материаль- ный, которым является содержание, и формальный, который выступает как комбинация, редакция в которой представлено содержание книги20.
По мнению И. Г. Фихте, содержание книги, т.е. идеальный аспект может быть присвоен21. Он выступает достоянием многих людей. Простая покупка книжного издания не дает основания для признания материального аспекта присвоенным. Читатель имеет возможность присвоить содержание книги, прочитав и переосмыслив ее.
Форма выражения идей не может быть присвоена – это невозможно. И. Г. Фихте считает, что невозможность присвоения формы выражения содержания обусловлена своеобразием и индивидуальностью мышления людей: чтобы стать частью внутреннего мира другого человека, чужая идея должна пройти определенную переработку, в своеобразной, отличающейся у каждого форме22. По мнению философа, идеи автора находятся в совместной собственности автора и читателя, поэтому присвоение идей автора не может считаться противозаконным в связи с тем, что при использовании идей каждый придает им свою оригинальную форму23.
На основе этого суждения мыслитель приходит к выводу, что форма произведения не может быть передана.
И. Г. Фихте подчеркивает, что форма произведения выступает в качестве нематериальной, являясь частью внутреннего мира автора, форма может быть выражена и при помощи знаков, которые будут являть собой материальную форму произведения, представляя его внешне, однако присвоение данной формы является незаконным24.
В теории И. Г. Фихте наиболее явно усматривается разграничение формы и содержания произведения. Оппозиция формы и содержания произведения обусловлена именно индивидуальностью формы, поскольку она является оригинальной, в то время как содержание не может являться таковым.
Разграничение формы и содержания повлияло и на круг прав, предоставляемых автору; И. Г. Фихте стал предшественником дуалистической модели авторского права25. Именно теория И. Г. Фихте была воспринята представителями правовой науки, интерпретирована в целях правотворчества и правоприменения.
Fichte J. Op. cit. Ibid.
Как метко указывают английские правоведы F. Kawohl и M. Kretschmer, характеризуя учение о форме и содержании произведения И.Г. Фихте, данный концепт стал одним из основании «нормативного пространства авторского права»26.
Признание принципа дихотомии идей и их выражений в качестве общеправового начала обуславливает интерес к изучению исторического опыта правоприменительной деятельности, ставшего созидательной детерминантой наполнения его правовым содержанием.
Для изучения исторического аспекта целесообразно обратиться к опыту правоприменителей США и Англии, поскольку именно в англосаксонской правовой семье решение вопроса о соотношении идей и их выражений стало предметом повышенного интереса со стороны правоприменителей на протяжении длительного исторического периода. Правоприменительные акты, посвященные рассмотрению данной проблематики, стали необходимым эмпирическим материалом для правотворческих органов.
Первые судебные акты, иллюстрирующие правовую оценку соотношения идей и форм их выражения, появились в Англии еще в XVIII веке27. Так, разрешая судебный спор Millar v. Taylor, судья Дж. Йетс, приводя обоснование права автора контролировать идеи до доведения их до всеобщего сведения, указал: «Идеи свободны. Но пока автор ограничивает их своим исследованием, они похожи на птиц в клетке, которых никто, кроме него, не имеет права отпустить на волю, пока он не посчитает нужным освободить их, они находятся под его собственным владычеством»28.
Изначально в правоприменительной практике вопрос о соотношении идей и их выражений фактически не рассматривался, поскольку отсутствовало их явное, категоричное противопоставление. К примеру, лорд-судья Мансфилд определял охрану, предоставляемую авторским правом, следующим образом: «Нематериальное право печатать совокупность интеллектуальных идей или способов мышления, переданных в виде набора слов и фраз, способов выражения»29.
В правоприменительных актах в изучаемый период времени использование категории «выражение» встречается крайне редко. Идеи и их выражения считались частью одной категории. Так, в 1845 г. Окружной суд Соединенных штатов по округу Массачусетс в деле Emerson v. Davies, не разграничивая идеи и их выражения, заключил, что автору книги принадлежит авторское право на план, расположение и комбинацию своих материалов и иллюстрацию своего материала, если это будет являться новым и оригинальным по своей сути30.
Приведенный вывод был подтвержден в деле Lawrence v. Dana. Суд пришел к выводу, что автор книги имеет столько же прав на план, расположение и сочетание собранных и представленных материалов, как у него в мыслях, чувствах, размышлениях и мнениях, или в тех формах, в которых они выражены и проиллюстрированы31.
Анализ данных судебных актов демонстрирует, что идеи и их выражения не разграничивались как объект правовой охраны.
С течением времени подход правоприменительной практики изменился. Новый подход был реализован Верховным судом США в деле Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony. Суд вывел следующее определение объекта авторско-правовой монополии: «Все формы письма, печати, гравюры, травления и т. д., с помощью которых идеи в сознании автора получают видимое воплощение»32.
Соответствующая дефиниция является иллюстрацией дихотомии идей и их выражений, при этом термин «выражение» означает любое воплощение идей, и именно выражение идей является объектом правовой охраны.
Принцип дихотомии идей и их выражений начал активно формироваться в судебной практике. Так, суд в деле Stowe v. Thomas противопоставил идеи, чувства, творения воображения следующим явлениям: языку, идиоме, стилю, внешнему виду таких идей. Суд заключил, что право литературной собственности распространяется только на выражение, используемое как «одежду» идей33.
Несмотря на складывающуюся практику разграничения идей и их выражения, в окончательном варианте принцип не был изложен.
О данной нерешительности американских правоприменителей свидетельствует прецедент Carter v. Bailey. Суд использовал положение о свободе идей для создания отдельного понятия для подлежащего правовой охране «языка» или внешнего подобия, в котором идеи или чувства передаются «в книге»34. При этом суд использовал аргументацию представленную как в деле Emerson v. Davies, так и в деле Stowe v. Thomas, что демонстрирует: вопрос о соотношении идей и их выражений не был категорично разрешен.
Иллюстрацией того, что принцип дихотомии идей и их выражений не был окончательно сформирован свидетельствует также прецедент Johnson v. Donaldson. Суд аргументировал свою позицию тем, что авторское право на самом деле не в идеях или выражениях, а только в воплощении первого в последнем; при этом суд акцентировал внимание на том, что защита авторским правом сосредоточена не на абстрактном произведении, а на существовании физической рукописи, которая может быть скопирована35.
Оказавшими наибольшее влияние на становление принципа дихотомии идей и их выражений являются прецеденты Верховного суда США: Baker v. Selden и Holmes v. Hurst.
В деле Baker v. Selden возник спор относительно авторских прав на книгу, в которой была представлена особая система ведения бухгалтерского учета, Selden изложил в книге свою систему ведения бухгалтерского учета в формах, состоящих из линейчатых линий и заголовков, иллюстрирующих систему и показывающих, как она должна использоваться на практике36. Baker опубликовал книгу по бухгалтерскому учету, в которой использован аналогичный план, но книга сделана с отличающимся расположением столбцов и в ней были использованы отличающиеся заголовки.
Рассмотрев данное дело, Верховный суд США сформировал следующую правовую позицию: «Никто не имеет права печатать или публиковать свою книгу или любую ее материальную часть в качестве книги, предназначенной для передачи знаний в искусстве, любой человек может практиковать и использовать само искусство, которое он описал и проиллюстрировал там»37. Несмотря на то, что Верховный суд в данном деле пытался разграничить незащищенное искусство, описанное в защищенной форме, он не смог сформулировать четко правило отграничения идей и их выражений.
В деле Holmes v. Hurst Верховный суд США заключил: «Право, предоставляемое законом об авторском праве, не является правом на использование определенных слов, поскольку они являются общим достоянием человеческой расы и настолько мало восприимчивы к частному присвоению, как воздушный или солнечный свет; равно как и право на идеи как таковые, поскольку в отсутствие средств их передачи они не имеют никакой ценности ни для кого кроме автора. Право автора распространяется на порядок слов, избранный для выражения собственных идей»38.
Суд указал, что предметом права автора является порядок слов в произведении автора. Объектом права автора не выступают идеи, выраженные этими словами, они существуют только в уме и поэтому не могут быть присвоены39.
Следует отметить, что дихотомия идей и форм их выражения не была сформирована однозначно в судебной практике США, в то время как в рассматриваемый период времени английские суды более категорично подходили к разделению идей и их выражений. Так, в деле Hollinrake v. Truswell суд пришел к выводу, что «авторское право не распространяется на идеи или схемы, системы или методы; право ограничено их выражением; и если их выражение не копируется, авторское право не нарушается»40.
На рубеже XIX–XX веков проблема, связанная с дихотомией идей и форм их выражения, становится все более актуальной. Как указал судья Холмс в деле Kalem Co. v. Harper Brothers: «Авторское право не распространяется на идеи в отличие от слов, в которых эти идеи одеты»41.
Сложность проблемы, связанной с дихотомией идей и форм их выражения, иллюстрирует дело Fitch v. Young, принимая решение по которому судья Л. Хэнд отметил: «Я никогда не мог достоверно установить и, вероятно, никогда не смогу определить, в какой момент плагиат перестает копировать выражение авторских идей и ворует только сами идеи»42.
С течением времени возникают судебные акты, более явно дифференцирующие идеи и их выражения. Например, Апелляционный суд второго округа США в деле Dymow v. Bolton пришел к тому, что идеи как таковые не подлежат охране авторским правом, авторское право охраняет лишь средства выражения идей43. В дальнейшем суды использовали соответствующую правовую позицию для обоснования предоставления правовой охраны выражениям идей44.
Немаловажное значение для развития принципа дихотомии идей и форм их выражение имеет прецедент Nichols v. Universal Pictures Corp.
В данном судебном деле истцом выступала драматург Энн Николс, один из авторов фильма «Ирландская роза Аби». Согласно сюжету молодой еврей женится на юной ирландке без согласия своего отца и отца девушки.
Ответчиком выступал создатель кинофильма «Коэнс и Келлис», в основе которого лежал сюжет о том, как молодой ирландец женится на еврейской девушке из враждующей семьи против согласия своего отца и отца своей возлюбленной.
Суд, рассматривавший данное дело, пришел к выводам, имеющим основополагающее значение для становления принципа дихотомии идей и их выражений.
Суд старался реализовать дихотомию идей и их выражений применительно не к дословному воспроизведению произведения, а к «абстрактному копированию» произведения, т. е. использованию идей оригинального произведения.
Интерес представляет подход суда к оценке соотношения оригинальности и взаимосвязи произведений, были сопоставлены персонажи произведений истца и ответчика.
Суд заключил, что для обоих произведений характерны четыре основных персонажа: влюбленные и их отцы. Относительно влюбленных суд указал, что их характеры не являются универсальными, они любящие и желающие детей, и это все, что можно сказать о них, и любой другой драматург вправе указать в своей пьесе подобных персонажей. Рассматривая персонажей-отцов, суд пришел к выводу, что они существенно отличаются в фильмах45.
Формируя итоговый вывод по настоящему делу, суд подчеркнул, что авторские права истца не охватывают всего, что содержится в его пьесе, часть которой – общественное достояние. Произведение, основанное на конфликтах между ирландцами и евреями, связанное с браком и детьми, не более восприимчиво к авторскому праву, чем сюжет о Ромео и Джульетте46. В этом деле не было никаких нарушений, так как идеи, которые копируются, – это, действительно, универсальные понятия и стереотипные персонажи.
В окончательном виде принцип дихотомии идей и форм их выражения был реализован Верховным судом США в деле Mazer v. Stein. Суд выразил данный принцип следующим образом: «В отличие от патента авторское право не дает исключительного права на раскрытое искусство, защита предоставляется только выражению идеи – а не идее как таковой»47.
Впоследствии данная интерпретация дихотомии идей и форм их выражения стала одной из базовых основ судебной практики и законодательства США в сфере защиты авторских прав.
Одним из основных начал авторского права на протяжении длительного исторического периода выступает дихотомия идей и их выражений. Данный принцип был сформулирован представителями немецкой классической философии. Наибольший вклад в развитие данных положений внесли И.Кант и И. Г. Фихте. Впоследствии их учение, в особенности учение И. Г. Фихте, было воспринято и в других странах как романо-германской, так и англосаксонской правовых семей. Однако существовала проблема интерпретации учения в правоприменительной, правотворческой практике. Анализ судебной практики США и Англии демонстрирует, что история становления дихотомии идей и форм их выражения в авторском праве складывалась неоднозначно.
В Англии дихотомия идей и форм их выражения была окончательно сформирована в качестве категоричного правила в конце XIX века.
На первоначальном этапе суды США не разграничивали идеи и их выражения, затем стали появляться судебные акты, дифференцирующие соответствующие категории, однако в течение длительного времени существовала неоднозначная позиция в решении данного вопроса. В окончательном виде принцип был сформулирован Верховным судом США только в середине XX века.
Впоследствии принцип дихотомии идей и их выражений стал одним из основных в авторском праве.
Список литературы Дихотомия идей и их выражений в правоприменительной практике судов США и Англии в период XIX - середины XX в
- Кант И. Метафизика нравов: в 2 ч.//Кант И. Сочинения: в 6 т. М: Мысль,1965. Т. 4., ч. 2.
- Кант И. Критика способности суждения//И. Кант. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 5.
- Кант И. Антропология с прагматической точки зрения//И. Кант. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6.
- Карташева А. А. Осмысление понятий «идея», «форма» и «оригинальность» в немецкой классической философии и их влияние на авторское право//Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук / Отв. ред. В.Н. Руденко. 2012. Вып. 12.
- Матвеев А. Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели: дис.. д-ра юрид. наук. М., 2016.