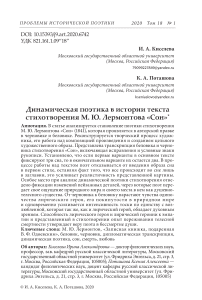Динамическая поэтика в истории текста стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сон"
Автор: Киселева Ирина Александровна, Поташова Ксения Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется становление поэтики стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» (1841), которая проявляется в авторской правке в черновике и беловике. Реконструируется творческий процесс художника, его работа над композицией произведения и созданием цельного художественного образа. Представлена транскрипция беловика и черновика стихотворения «Сон», включающая исправления и условные знаки рукописи. Установлено, что если первые варианты в основном тексте фиксируют три сна, то в окончательном варианте их остается два. В процессе работы над текстом поэт отказывается от введения образа сна в первом стихе, оставляя факт того, что все происходит во сне лишь в заглавии, это усиливает реалистичность представленной картины. Особое место при анализе динамической поэтики стихотворения отведено фиксации изменений пейзажных деталей, через которые поэт передает свое ощущение природного мира и своего места в нем как душевно-телесного существа. От черновика к беловику нарастают чувства одиночества лирического героя, его покинутости в природном мире и одновременно усиливается интенсивность тоски по единству с возлюбленной, которая так же, как и лирический герой, обладает духовным зрением. Способность лирического героя и лирической героини к эмпатии и представленный в стихотворении опыт переживания телесной смертности утверждает веру поэта в бессмертие души.
М. ю. лермонтов, "записная книжка в. ф. одоевского", беловик, черновик, дипломатическая транскрипция, динамическая поэтика, сон, смерть, любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/147226237
IDR: 147226237 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.6742
Текст научной статьи Динамическая поэтика в истории текста стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сон"
Б орис Эйхенбаум отмечал, что стихотворение «“Сон” принадлежит к тем многозначительным произведениям Лермонтова, которые возбуждали наибольшее количество разных домыслов и толкований» [Эйхенбаум, 1936: 252]. Символисты понимали произведение как пророческий сон, усматривали в нем предсказание судьбы самого Лермонтова (см.: [Соловьев], [Эйгес]), Д. С. Мережковский назвал его так — «видение ужасающей ясности» [Мережковский: 8], об этом же пишут и современные исследователи [Кормилов], [Ходанен, Ямадзи]. При истолковании произведения особенно часто обращали внимание на его архитектонику, определяемую тем, что «это Сон 3 внутри Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе» [Набоков: 425]. Исследователи отмечали, что в стихотворении «Сон» «известные поэзии композиционные законы Лермонтов реализовал не формально, а открыл в них новое качество, использовав в реалистическом искусстве художественный приём соединения близкого с далёким» [Дегтярева, Ермакова: 25]. Но это качество (и его характеристики) еще не выявлено в полноте, и наиболее рельефно оно обнаруживается при изучении творческой истории произведения, реконструкция которой, несмотря на литературоведческий интерес к этому стихотворению, до сих пор не предпринималась. И хотя в академических собраниях сочинений Лермонтова составители привели черновые варианты стихотворения, эти изменения не были подвергнуты текстологическому и собственно литературоведческому анализу.
Беловик стихотворения «Сон» выполнен чернилами на обороте 7-го листа с лицевой части «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским», черновик — карандашом, начиная с оборота 4-го листа до оборота 5-го листа с конца тетради. Можно предположить, что оно было перенесено в чистовую часть одновременно со стихотворением «Утес», расположенном на
8-м листе тетради — бледно-коричневые чернила, немного затупившееся перо.
Далее приводится транскрипция беловика и черновика стихотворения «Сон» из «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским»»1. Беловой текст соответствует опубликованному в академическом собрании сочинений М. Ю. Лермонтова2.
Беловик
Въ полдневный жаръ{_ _ _
Мнгь спилась разъ долин{т}2 Дагестана съ свинцомъ в груди не движимъ <нрзб. > в долине той лежалъ недвижимъ я;
глубокая егце дымилась въ моей груди была живая рана;
--------------х^точилася текла дымясь по капле кровь^моя.
Лежалъ одинъ я на пескгь долины;
Уступы скалъ тгьснилися кругомъ, И солнце жгло ихъ желтыя вершины
И жгло меня — но спалъ я мертвымъ сномъ.
И снился мнгь Ляющш огнями вечернш роскошный пиръ, {въ}3 родимой сторонгь. Межъ юныхъ женъ увгънчанныхъ цветами, Шелъ разговоръ веселый обо мнгь.
Но въ разговоръ веселый не вступая, Сидгьла тамъ задумчиво одна, грустный
И в гермой сонъ душа ее младая Богъ знаетъ чгъмъ была погружена;
долина Дагестана
-
И снилась ей песчаная поляна;
долить знакомый трупъ лежалъ въ полянгъ той;
въ его груди дымясь чернтл^а}4 рана, и кровь лилась хладгъюьцей струей.
-
—■" <два слова не разб. карандашом, обведено в овал
карандашом >
Черновик
I
Мнп> разъ
Приснилась мть-додимй д'агестана ль Эолингь той лежалъ недвижимъ я дымяея-чер+тгян ев моей груди была ысимя рана, по каплть кровь тАилася текла, дымясь» норними.* кровь моя
И
Приснился мнгь С1яюи<1й огнями
Но я смотрела духовными очами роскошный
На светлый пиръ, въ далекой сторонгь. втнчанныхъ межъ юныхъ женъ украшенных центами, Шелг разговоръ ос^ду.йР^о мнт.
Лежалъ я на пески, долины;
Одине и я один лвжтт<нрзб>
" Дежн ^ъ я мертвый у ручья долины.
Громады скалъ тгъснилися кругомъ,
И солнце жгло ихъ желтыя вершины
И мыль вилась и жгло меня
И третий день {нор спалъ я мертвы / мъ сном».
И мермюымъ2 сном» я стмъ средь wow яоляны
Но быль закрыть нсшвкъ мой взоръ туманомъ смертельной
Въ груди враждебный былъ свинецъ изъ рамы------<-------засыхая
И вотъ чтоммуъ приснилось наконецъ
Но въ разговоръ веселый не вступая,
Сидгьла тамъ задумчиво одна волшебный черный
-
1 Лермонтов использует строчную букву.
-
2 Было: «ужъ» - исправлено: «но».
Строфы черновика сопровождены нумерацией, первые три цифры вписаны в небольшие интервалы между строк или поверх слов, то есть нумерация сделана уже после написания этих строф, в процессе размышления поэта над композицией стихотворения. Черновые первая и третья строфы обозначены арабской цифрой «1»; строфа, расположенная между ними, обозначена цифрой «3» поверх слова «смотрел»; вторая строфа следует за вторым вариантом первой строфы: обозначена сначала арабской цифрой «2» поверх зачеркивания, затем перечеркнута полностью (вместо нее в беловик перенесен второй вариант 1-й строфы, подвергнутый значительной переработке). Следующая строфа обозначена арабской цифрой «4», которая поставлена в конце страницы и расположена с интервалом от предыдущих строк, то есть поставлена после внесения правки в предшествующие строфы и уточнения композиции. Пятая строфа не пронумерована: композиция произведения стала ясна Лермонтову, и нумерация уже не требовалась.
Стихотворение открывается картиной наступающей смерти героя, создан образ умирающего, но еще живого человека. И в черновом варианте, и в окончательной редакции герой «лежал недвижим», но, несмотря на подчеркнутое отсутствие какого-либо движения раненого, течением его крови создается динамическая картина угасания жизни, течения времени. То, что герой еще не умер, поэт подчеркивает глаголами «текла» (черновик), «дымилась», «точилась» (беловик), в беловик он добавляет наречие «еще» («Глубокая еще дымилась рана») со значением «пока что» — герой пока что жив. Для передачи страдания героя от смертельного ранения Лермонтов останавливается на глаголе «точилась». Замена глагола «течь» из черновика на глагол «точиться» в беловике способствует фокусированию внимания на смертельной ране — поэт приближает изображение, придает картине осязаемость ощущения мучительной боли, страдания. Точащаяся кровь передает угасание жизни, но пока кровь не перестает течь, жизнь не замирает. Образ живого человека с дымящейся раной выступает ключевым для всей первой строфы в беловике. Это начальная стадия умирания героя. В черновом варианте этой сцене отведены еще два варианта следующей строфы, так и не перенесенные поэтом в беловик (см.: транскрипция). Оба варианта более детально подчеркивают процесс угасания жизни: назван «враждебный» для человеческого организма предмет — свинцовая пуля, кровь «засых<ает>», чем подчеркивает угасание жизни.
В первом стихе Лермонтовым сделан акцент на том, что события происходят в полдень в жаркой долине Дагестана. В черновых вариантах этой строки выраженной временной отнесенности не было обозначено, указание на полдень появилось только в беловике. На это обратил внимание М. Н. Эпштейн: «Лермонтов вводит в русскую поэзию мотив полдня во всей его метафизической значимости — как высшей точки в циклическом движении природы, предельного напряжения и замирания всех ее жизненных сил» [Эпштейн: 219]. Стоит также указать на важность этого акцента уже в связи с дальнейшим развитием повествования: полдень воспринимается как пограничное время суток, означающее некий перелом времени и состояния.
Во второй строфе Лермонтов вносит дополнительные подробности. Детали пейзажа, в котором лежит умирающий герой, появились уже в первой строфе, но детализированы во второй с целью «перехода реально зримой картины в художественный образ» [Киселева, 2019: 271]. Правка в черновике свидетельствует о размышлениях поэта над местом происходящих событий: герой умирает «у ручья долины», «среди долины», «средь поляны», «на песке долины», в окружении «скал». Следует отметить, что мотив сна-смерти в окружении природы занимает значительное место в творчестве поэта (стихотворения «Русалка» (1832), «Пленный рыцарь» (1841), поэмы «Мцыри» (1839) и «Демон» (1839)). В поэтическом шедевре Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841), также вошедшем в состав «Записной книжки В. Ф. Одоевского», поэтом создана «мифология посмертной живой дремы» [Роднянская: 304]. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» представляет идеальную модель вечного сна-покоя в гармонии с природой, связанного с переходом души и тела в иное бытие («Чтоб в груди дремали жизни силы, // Чтоб дыша вздымалась тихо грудь»), тогда как в стихотворении «Сон» процесс «развоплощения личности, отрыв души от тела» [Семенова: 57] происходит на фоне скупых деталей выжженой солнцем природы — песка и скал, в который утекает кровь героя, скалы, ручей. На песке под палящим солнцем герою не найти гармонии, сна-покоя, и потому сон по отношению к природной жизни выступает в ипостаси смерти.
Одним из ведущих ландшафтов Лермонтова становятся горы Кавказа (см. об этом подробнее: [Киселева, 2017: 74]), но в отличие от большинства стихотворений, в которых горный пейзаж строится «по вертикальной оси» [Поташова], здесь представлено пространство горизонтальное, как, впрочем, и в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…». Однако в созданном замкнутом пространстве стихотворения «Сон» отсутствует пространственная перспектива, перед смертью герой не имеет возможности увидеть неба, пространство природное максимально ограничено — «Уступы скал теснилися кругом», в черновике физическому видению мешает действие неживой природы — «пыль вилась». Суровая природа выступает визуальным отражением состояния страдания, разрыв человека с природой усиливает трагизм настигающей смерти в одиночестве. Пейзаж в стихотворении сведен до минимума, и в то же время отточен каждый его элемент. Детализируя образ скал, поэт меняет теснящиеся «громады» (черновик) на теснящиеся «уступы» (беловик), тем самым добиваясь ощущения тесноты, идущей вразрез с привычным восприятием долины как длинной впадины среди гор. Долина, где лежит умирающий герой, превращается в замкнутый участок пространства, опаляемый жгучими лучами солнца.
Вторая строфа стихотворения предваряет точку отсчета новой реальности, другой, приснившейся. Новая «стадия» в постепенной омертвелости настигает героя, как следует из черновика, на третий день, когда он уже спит «мертвым сном». Предсмертное видение приходит к герою после того, как он лишается сознания, чувствительности: «И жгло меня — но спал я мертвым сном». Союзом «но» в беловике Лермонтов заменяет черновое «И третий день»: в беловике поэт не показывает длительность процесса страдания и подчеркивает сам итог — герой уже не чувствует на себе мучения от палящего солнца, лишен чувствительности, для него наступило долгожданное освобождение от страданий.
Третья строфа беловика в сравнении с черновиком отмечена сменой активного залога на пассивный. Если в черновике она начинается словами «Но я смотрел духовными очами», то в беловике повествование от первого лица закончилось еще во второй строфе, новая сразу представляет картину сна: «И снился мне сияющий огнями». В композиционном отношении третья строфа стихотворения открывает новую часть — сон героя, который символизирует собой переход из реальности в другую сферу, из земной жизни в пограничное, «третье состояние человека» [Москвин: 87]. В созданном поэтическом контексте сон является аналогом смерти, вытесняющим протекающее в реальности внешнее время другим, внутренним, миром с иным хронотопом. В этой связи Лермонтову было важно показать, что герой находится в предсмертном забытьи и лишен возможности действовать, при том что сознание его открыто духовной реальности.
Из черновика видно, что Лермонтов описывал то, как герою открываются «духовные очи»: обессиленному, умирающему человеку, закрывшему глаза, предоставляется возможность увидеть недоступное его физическому зрению. Святитель Димитрий Ростовский высказывал следующие размышления об очах плотских и духовных следующее: «Человек, созданный Богом из плоти и духа, имеет и плотские очи, и духовные. Плотские очи у него общие с конями, псами, муравьями и прочими зверьми воздушными, водными и земными. Душевные же очи у него общие с Ангелами Божьими и с Самим Господом Богом, Который есть Дух, а не тело» [Димитрий Ростовский: 327–328]. Явленное лирическому герою видение отражает его духовно-душевное состояние — его душа стремится к родной стороне. В беловике Лермонтов отказывается от фразы «духовными очами» и сразу представляет саму картину сна. Смена субъекта повествования (повествование ведется не от первого, а от третьего лица) способствует созданию эффекта отстраненности, подчеркивает, что душа уже покинула тело героя. Духовное прозрение — это и есть сам сон, своеобразный экран, отражающий мятущиеся чувства и образность мыслей, возможность оказаться в своей «истинной духовной Отчизне» [Моторин: 324].
Стремясь к зримости, объемности создаваемой поэтической картины, Лермонтов акцентирует образ света — в черновике дважды («Приснился мне сияющий огнями… // На светлый пир в далекой стороне»), в беловике единожды («И снился мне сияющий огнями»). «Сияющий огнями» пир во сне героя контрастен обжигающему солнцу в мире реальном, «пир в родимой стороне» противопоставлен уступам чуждых диких скал, веселый разговор — одиночеству, юность и цветы — смерти. Изменение эпитета в черновике — «далекая» — по отношению к «стороне» на беловое — «родная» — также связано с усилением контраста между концом жизни в одиночестве и желаемой гармонией.
Этим же качеством — духовным зрением, наделена и героиня стихотворения. В черновом варианте пятой строфы и сделанных правках в беловике Лермонтов ищет точное определение сну героини: первоначальный черновой эпитет «чудный» поэт меняет на «волшебный», затем на «черный». Перенося стихотворение в первую, беловую, часть записной книжки, Лермонтов заменяет «черный» на «горький», затем вносит правку в беловик и уже в окончательном варианте появляется прилагательное «грустный». Первоначальные определения «чудный» и «волшебный» указывают на природу сна как пограничного состояния между бытием и небытием. В созданном поэтическом контексте прилагательное «чудный» и его вариант «волшебный» употреблены Лермонтовым в значении «выходящий за пределы рационального познания», чудо сна проявляется в возможности видеть явления за пределами чувственной реальности. В окончательной редакции стихотворения чудесная природа сна подчеркнута иначе. Только Богу известна важность постигнувшего героиню видения — другим постигнуть этой тайны не дано. Как отмечает А. И. Журавлева, в словах «Бог знает чем была погружена» «осуществляется не только оживление фразеологизма («Бог знает». — И. К., К. П.), но само слово Бог становится обозначением третьего лица и едва ли не главнейшим персонажем стихотворения: он, она и мироустройство» [Журавлева: 139]. В беловой редакции Лермонтов отказывается от эпитета, подчеркивающего сакраль-ность сна (его духовная природа уже обозначена появившимся «ожившим фразеологизмом»); цепочка прилагательных «черный» — «горький» — «грустный» воссоздает психологическую картину сна, что добавляет произведению реалистичности и зримости, подчеркивает личную трагедию задумчивой девы, которая, испытывая на себе «провидческую божественную связь родных душ» [Сахарова: 460] и преодолевая «пределы земного притяжения» [Киселева, Поташова, Сеченых: 99], видит смерть дорогого человека. В двух видениях, изображающих душевные порывы героя и героини, воплощена идея об абсолютной ценности любви, отрывающей реальность вечной жизни.
Сделанные поэтом изменения в шестой строфе связаны с размышлениями над местом происходящего события и созданием картины ухода жизни из героя. Как и в начале стихотворения, слово «поляна» Лермонтов заменяет на слово «долина» (вероятно, что эта правка была сделана уже после завершения черновой редакции стихотворения). В 6-й строфе появившаяся еще в начале стихотворения картина подтверждается видением героини, но гибель героя здесь выражается уже более конкретно и пронзительно, так как связана с горечью утраты любимого человека. Героиня видит «знакомый труп», а кровь уже не течет по капле, а «льется хладеющей струей», — так интенсивность происходящего усиливается. Факт приближающейся смерти героя теперь очевиден. Но в этой связи возникает вопрос о повествователе: если герой умер, то от чьего лица ведется рассказ? Обращаясь к черновику и беловику до проделанной Лермонтовым правки, можно утверждать, что он ведется от лица повествователя (первоначально стихотворение открывалось фразой «Приснилась мне долина Дагестана» или «Мне снилась раз долина Дагестана», и под словом «знакомый» из последней строфы тогда можно разуметь именно повествователя — он видит происходящее). В таком случае и предсмертный сон героя, и видение героини объединяются по принципу «матрешки» [Ходанен, Ямадзи: 181] в еще один сон, который был явлен повествователю, этот сон можно назвать вещим, определить как воспоминание о будущем. Композицию окончательной редакции Лермонтов упрощает: произведение сразу открывается изображением умирающего человека, раненного в бою или при нападении неприятеля, и неизвестно, снится ли все происходящее герою, или же события происходят с ним наяву. Финальная строфа позволяет герою убедиться в собственной смерти — еще начиная с треть-ей строфы беловика повествователем выступает не сам герой, а его душа, отсюда и «знакомый труп», увиденный как бы со стороны.
Композиция беловика в сравнении с черновиком изменяется: на самом деле это уже не принцип «матрешки», когда оба сна составляют один сон, на чем настаивают Л. А. Ходанен и А. Ямадзи, а все же зеркальная структура, «отражение отражения», как верно отметил И. Н. Розанов [Розанов: 242]. Так же и Б. М. Эйхенбаум писал: «…сон героя и сон героини — это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них и возвращающие друг другу свои отражения» [Эйхенбаум, 1936: 252].
Стихотворение в черновике и беловике начинается и заканчивается почти одинаково, сохраняются практически все детали пейзажа, но в черновике мотив смерти более интенсивен, труп там «нем» и «бледен», очи покрываются «туманом смертельн<ым>», кровь засыхает. В беловике, при том что автор не отказывается от лексемы «труп», смерть в ее характеристике отсутствия жизни отходит на второй план, бóльшую интенсивность приобретает мотив бессмертия души, обладающей независимостью от времени и пространства, легко преодолевающей земные расстояния и имеющей способность предвидения. В беловике Лермонтову удается создать зримый образ именно перехода человека из времени в вечность, который происходит как переход через порог смерти. Его опыт работы над текстом — это духовно-поэтический опыт преодоления смерти, опыт утверждения вневременной связи душ, опыт передачи сакрального диалога, возможного благодаря утверждаемой поэтом абсолютной объективности человеческой общности, источником которой является любовь. Отказываясь в беловом тексте от так называемого Сна 1 (по обозначению В. В. Набокова), оставляя его за пределами текста, Лермонтов тем самым акцентирует реальность изображаемого духовного мира. Создание текста дало Лермонтову, словами И. С. Тургенева (не относящимися непосредственно к лермонтовскому тексту, но верно отражающими его сущность), «возможность пережить в самом себе смерть самого себя — «есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души»3.
Примечания
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Текстологическое исследование и комментирование автографов М. Ю. Лермонтова из “Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским”», № 19-012-00122.
-
1 Записная книжка В. Ф. Одоевского // ОР РНБ. Ф. 429. № 12.
-
2 Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2: Стихотворения, 1832–1841. С. 197 (беловик). С. 300 (черновик).
-
3 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1967. Т. 4: Письма 1860–1862. С. 185.
Список литературы Динамическая поэтика в истории текста стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сон"
- Дегтярева М. В., Ермакова Н. Ф. Оппозиция "близкий - далекий" как художественный прием интерпретации текста (на материале стихотворения М. Ю. Лермонтова "Сон") // Вестник МГОУ. Серия "Русская филология". - 2012. - № 5. - C. 25-30.
- Димитрий Ростовский, св. Очи плотские и духовные // Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского. - М.: ДАРЪ, 2008. - С. 327-331.
- Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. - М.: Прогресс-Традиция, 2006. - 266 с.
- Киселева И. А. Творчество М. Ю. Лермонтова как философско-религиозная система. - М.: ИИУ МГОУ, 2017. - 178 с.
- Киселева И. А. О смысловой цельности дефинитивного текста поэмы М. Ю. Лермонтова "Демон" (1839) // Проблемы исторической поэтики. - 2019. - Т. 17. - № 4. - С. 91-106 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571057107.pdf (20.06.2019). 10.15393/j9. art.2019.6422 DOI: 10.15393/j9.art.2019.6422
- Киселева И. А., Поташова К. А., Сеченых Е. А. Творческая история стихотворения М. Ю. Лермонтова "Спор" (1841) в культурно-историческом контексте // Научный диалог. - 2019. - № 10. - С. 264-279.
- DOI: 10.24224/2227-1295-2019-10-264-279
- Кормилов С. И. Поэзия М. Ю. Лермонтова. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. - 128 с.
- Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. - СПб.: Пантеон, 1909. - 88 с.
- Москвин Г. В. Концепты "Смерть", "Сон", "Любовь" в лирике М. Ю. Лермонтова // Лермонтовские чтения - 2009. - СПб.: Лики России, 2010. - С. 84-89.
- Моторин А. В. Мцыри // М. Ю. Лермонтов: энциклопедический словарь / гл. ред. и сост. И. А. Киселева. - М.: Индрик, 2014. - С. 323-327.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев / пер. с англ. и франц.; предисл. И. Толстого. - М.: Независимая газета, 1996. - 438 с.
- Поташова К. А. Творчество М. Ю. Лермонтова в восприятии Н. А. Некрасова // Ученые записки НовГУ. - 2019. - № 2 (20) [Электронный ресурс]. - URL: https://www.novsu.ru/file/1506846 (10.06.2019).
- Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову: юбилейный сборник. - М.; Пг.: Изд. т-ва "В. В. Думнов, наследники бр. Салаевых", 1914. - С. 237-289.
- Сахарова О. В. Сон // М. Ю. Лермонтов: энциклопедический словарь / гл. ред. и сост. И. А. Киселева. - М.: Индрик, 2014. - С. 459-460.
- Семенова С. Г. Преодоление трагедии: "Вечные вопросы" в литературе. - М.: Советский писатель, 1989. - 440 с.
- Соловьев В. C. Судьба Лермонтова // Вестник Европы. - 1901. - № 2. - С. 441-459.
- Ходанен Л. А., Ямадзи А. Поэтическая мифология снов в творчестве М. Ю. Лермонтова // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2015. - № 2 (62). - Т. 4. - С. 179-183.
- Эйгес И. Р. О Лермонтове (К метафизике сновидения) // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Антология. - СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2013. - Т. 1. - С. 512-534.
- [Эйхенбаум Б. М.] Варианты и комментарии // Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: в 5 т. - М.; Л.: Academia, 1936. - Т. 2: Стихотворения, 1836-1841. - С. 159-274.
- Эпштейн М. Н. "Природа, мир, тайник вселенной.".. Система пейзажных образов в русской поэзии. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.