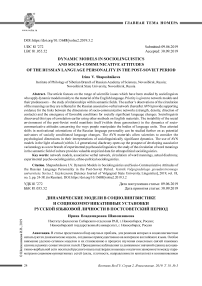Динамические модели в социолингвистике и социокоммуникативные установки русской языковой личности в постсоветский период
Автор: Шапошникова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор научных проблем, для решения которых в социолингвистике используются динамические модели, созданные преимущественно на материале английского языка. Особое внимание уделено сетевым моделям и их становлению в процессе изучения смысловых связей языковых единиц в рамках семантических полей. Проведенные наблюдения за движением значений единиц ассоциативно-вербальной сети носителей русского языка подтвердили выводы о наличии зависимости между параметрами социокоммуникативных сетей (силы, плотности, направленности контактов) и возникновением условий для социально обусловленных языковых изменений, полученные ранее на английском материале с применением других методов. Неустойчивость социальной среды постсоветского пространства проявляет себя (в пределах трех поколений) в динамике социокоммуникативных установок применительно к оперированию телами языковых знаков. Смена мотивационно-установочных ориентиров русской языковой личности способствует активации социально обусловленных языковых изменений. Принципы построения ассоциативно-вербальной сети позволяют учесть психологический фактор в интерпретации социолингвистически значимой динамики. Использование ассоциативно-вербальных моделей в аспекте актуальной диахронии открывает перспективу развития ассоциативной вариантологии как раздела экспериментальной психосоциолингвистики, а изучение движения значений в смысловом поле культуры дает ценный эмпирический материал для этнополитической социолингвистики.
Сетевая модель, ассоциативно-вербальная сеть, движение значений, актуальная диахрония, экспериментальная психосоциолингвистика, этнополитическая социолингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149129992
IDR: 149129992 | УДК: 81'272 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.3.2
Текст научной статьи Динамические модели в социолингвистике и социокоммуникативные установки русской языковой личности в постсоветский период
DOI:
Научные модели, позволяющие описать и объяснить изменчивость объекта, называют динамическими. Для социолингвистики это – модели, дающие ключ к пониманию языковых процессов в части их социальной обусловленности. Эти модели, как отмечает В.А. Тишков, оказались особенно востребованными в антропологических исследованиях постсоветского времени, когда возникла острая потребность в разработке подходов для понимания новой реальности, показавшей симптомы разрывов с традицией и даже ее радикальной смены. Старые статические подходы к изучению «традиционных обществ» оказались во многом несостоятельными [Тишков, 2016, с. 101]. Быстрое исчезновение советского государства с конфликтами и противоречиями на фоне разнообразных спонтанных практик политической мобилизации этничности привело к необходимости осмыслить и объяснить суть происшедших перемен и полученного народами бывшего СССР перестроечного опыта. Вопросы динамики этносоциокультурных процессов начали разрабатываться в рамках новых дисциплин: этносоциологии, этнополитологии и др. [Губогло, 2016; Тишков, 2016; Феномен междисциплинарности..., 2016]. Одной из таких междисциплинарных отраслей стала этнополитическая социолингвистика, которая изучает функционирование и взаимодействие языков в меняющемся этносоциальном контексте [Губогло, 2016, с. 73–77]. Задачи этого направления М.Н. Губогло связывает с выявлением языковых потребностей населения и оценкой последствий «этноязыкового волюнтаризма» эпохи перестройки. «Деформацию» языковой политики в разных регионах бывшего СССР, политизацию языка, стремление решить вопросы борьбы за власть за счет игнорирования реалий языковой ситуации, в особенности роли русского языка как социального капитала и национального достояния народов РФ, автор трактует как последствия этнизации политики [Губог-ло, 2016, с. 73–77].
Нельзя не согласиться с М.Н. Губогло, показавшим недооценку в прошлом советской социолингвистикой этнополитических аспектов языковой жизни народов СССР и связавшим такое положение дел с характерным для прошлого акцентом на исследовании языка «вне человека», а не «на речевом поведении человека» [Губогло, 2016, с. 76]. Такая постановка проблемы требует учета психологического фактора в построении динамических моделей взаимодействия языковых процессов и социальных практик. В данной статье мы обратимся к потенциалу динамических моделей «языка в человеке», которые относятся к разряду сетевых и, как нам представляется, способны помочь в оценке выявившихся на постсоветском пространстве этносоциополитических аспектов функционирования языка. Сетевые динамические модели пригодны и для поиска ответов на фундаментальные вопросы лингвистики об актуальной вариативности языка, о социокоммуникативных условиях, запускающих языковые изменения. Вместе с тем эти модели позволяют учесть психологические аспекты социокоммуникативной деятельности человека.
Динамика в синхронии и диахронии: языковая вариативность и языковые изменения
Динамическое взаимодействие социальных и языковых процессов имеет пространственно-временную отнесенность, которая должна быть учтена в соответствующих моделях. Традиционным для лингвистики является разделение синхронных и диахронических подходов в рассмотрении языковых изменений, вызванных социальными факторами. Синхронный аспект преимущественно высвечивает проблему языковой вариативности. Для ее изучения лингвист идентифицирует и описывает социолингвистические переменные с их функциональной спецификой по уровням языка и характерной социальной дистрибуцией. Вариативность как естественное состояние языка может поставлять субстантный материал для языковых изменений , однако сама по себе не может быть к ним приравнена. Для оценки устойчивости и направленности изменений (в особенности на фонетическом и грамматическом уровнях) необходимо время, превышающее жизнь одного поколения наблюдателей.
Диахроническая социолингвистика ограничена в выборе методов и приемов исследования из-за невозможности живого, актуального наблюдения за предметно-содержательной стороной ушедшей в прошлое социальной и языковой деятельности. Ей приходится во многом опираться на готовые лексикографические и текстовые ресурсы, возможность обработки которых, впрочем, существенно расширилась с появлением компьютерных технологий. При этом обнаружение социально детерминированных языковых изменений макроуровневого порядка (затрагивающих эпохи и значительные пласты вербальных единиц), равно как и микроуровневая динамика значений отдельных лексем, базируется преимущественно на историческом анализе лексикографических источников и семантических категорий (часто представленных в виде полевых структур). Исследования такого плана необходимы для оценки и описания динамики ядра лексического состава языка и связанных с этой процедурой прикладных решений.
Диахроническая социолингвистика фиксирует ряд знаковых для второй половины прошлого века процессов в системе английского языка, интенсивно развивающихся и в новом тысячелетии. Так, Дж. Хьюз [Hughes, 1989], активно использующий приемы построения семантических полей лексики, объединенной социально-культурными условиями бытования, прибегает к данным Оксфордского словаря, в котором приводятся даты первого и последнего употребления слов в текстах. Семантические поля становятся предметом рассмотрения в исторической ретроспективе с учетом реконструкции по сохранившимся из прошлого источникам широкого социокультурного контекста, в котором функционировали рассматриваемые группы лексем в разные периоды их существования в языке. Социальный контекст восстанавливается параллельно с тематическими лексико-семантическими полями. При данном подходе автор получает материал, позволяющий не только выносить суждения о содержании наблюдаемых собственно языковых изменений, но и о детерминирующих реструктурирование лексикосемантических полей социальных факторах. Дж. Хьюзу удалось выявить такие социально обусловленные сдвиги в смысловой структуре больших групп лексики, как секуляризация религиозных терминов (clerk, cell, worship, passion утратили исходную исключительно сакральную отнесенность к религиозным практикам); морализация и демократизация статусных слов (например, noble, villain перешли из простых именований социального статуса в единицы оценочного типа, а значение слова free утратило исходные ассоциации с качествами, присущими только людям определенных сословий) и др. Рост экономики капитализма и зависимости от денежного оборота активирует специализацию значений по типу монетаризации, по данным Дж. Хьюза, с 1550 г. особенно экстенсивно и интенсивно, с вовлечением все большего количества слов, и с увеличением частоты их употребления [Hughes, 1989, p. 36–37]. Целый ряд лексем, называвших прежде более разнообразную по своему содержанию деятель- ность, ассоциируются теперь только с товарно-денежным обменом (ср. др.-англ. sellan – ‘давать, отдавать, в том числе и в обмен на что-то’; совр. sell – ‘продавать’). Влияние денег не только трансформировало семантику многих унаследованных от древнеанглийского языка слов, но и привело к появлению большого количества заимствований, которые отражают новые сферы деятельности и отношений в обществе: отношения собственности, налогообложение, кредитно-банковская сфера, коррупция и др. [Hughes, 1989, p. 36– 37]. Очевидно, что для рядовых носителей языка такого рода изменения не были заметны и осознаваемы, время их протекания превышало сроки жизни отдельных индивидов.
Ключевые механизмы языковых изменений при взаимодействии различных факторов подробно и новаторски раскрыты У. Лабовом на современном материале американского английского (АNAE) 1. Автор последовательно идентифицирует субстантные, структурные и функциональные признаки, попадающие в разряд изменений, анализирует весь открывшийся на новом материале комплекс факторов, среди которых особое внимание уделяется когнитивным и культурным. Они осмысляются (на основе возрастной специфики восприятия и освоения языковых явлений) у детей как характерная для них трансмиссия (transmission of change), а у взрослых – диффузия (diffusion of change). Рассматривается большой спектр конвергентных и дивергентных явлений изменчивости, включая и такие, которые сопряжены, в той или иной степени, с разными актами идентификации носителей языка [Labov, 1994; 2001; 2007; 2010]. В итоге в лингвистике формируется системное представление о когнитивных и мотивационно-прагматических основаниях языковых изменений.
Работы У. Лабова и другие инициированные и проведенные выдающимися учеными исследования на английском материале [Chambers, Trudgill, 2004; Trudgill, 2014; Wolfram, Schilling-Estes, 2006] показали всю сложность и многофакторность языковой изменчивости. Ее характер, скорость, причинно-следственные механизмы существенно (иногда радикально) отличаются по уровням языковой системы. С точки зрения внутриязыковых закономерностей это обусловлено функциональной спецификой единиц каждого уровня и их подсистем, в частности, степенью влияния на понимание речи и передачу информации в процессе общения.
Информативна для понимания характера и природы воплощения социальных значений в единицах разного уровня статья П. Экерт и У. Лабова [Eckert, Labov, 2017], выполненная на фонетико-фонологическом материале. Авторы отмечают, что значения как конвенциональные ассоциации различий реального мира с различными языковыми формами по своей природе всегда социальны. В социолингвистическом плане актуальна социальность ин-дексального порядка, то есть тот функциональный компонент значения, который несет информацию о говорящем как социальном акторе в речевой ситуации. Социолингвистическое значение в этом смысле возникает во взаимодействии между собеседниками. Заданный таким образом ракурс рассмотрения обязывает к исследованию связи референциальной составляющей с индексальной у единиц, показывающих вариативность на разных уровнях языковой системы. Конкретные фонетические единицы (звуки), свободные от смысловой референциальной нагрузки, склонны выполнять индексальную социальную функцию, в то время как парадигматические структуры абстрактно-фонологического уровня, неосознаваемые в своей совокупности носителем языка, служат в качестве маркеров социальных значений. Социолингвистические переменные, как правило, не выполняют референциальной функции, однако морфо-синтаксическая и лексико-прагматическая семантика языкового знака может усиливать его индексирующий социальность потенциал. Так, отрицание само по себе реализует референциальную функцию, в то время как количество негативных частиц выступает в качестве интенсификатора. Вариативность нагружает референциальный знак дополнительным индексирующим значением [Eckert, Labov, 2017, p. 469]. Само наличие макросоциальных параметров возраста, гендера, этничности не гарантирует обязательной индексации этих различий в языковом формате, но вероятность проявления этих параметров на локальном уровне рассмотрения конкретной разновидности языка у отдельного языкового коллекти- ва имеется. Следовательно, не любая вариативность в языке может быть социально значимой, однако переменные социолингвистического порядка направлены на высвечивание какого-то социально маркированного свойства. Они неустойчивы и изменчивы в той же мере, как и соответствующие социальные признаки [Eckert, Labov, 2017, p. 469].
Вопрос о языковых изменениях и их распространении авторы осмысляют с опорой на сетевую модель, в которой языковые изменения протекают по сети контактов между индивидами. Кластеризацию индивидуальных контактов исследователи ставят в зависимость от предметно-содержательной стороны совместной деятельности вступающих в контакт индивидов. Рассмотрев ряд сетевых параметров, усиливающих или ослабляющих социальную индексацию переменных, авторы приходят к выводу о том, что фундаментальное свойство языка человека – наличие в его арсенале ограниченного количества «пустых» в смысловом плане единиц, свободных от референции, но создающих при комбинировании друг с другом бесконечное количество несущих значение слов и предложений, – способствует передаче и распространению социально маркированных смыслов [Eckert, Labov, 2017, p. 491]. Движение значений лексических единиц в их социокоммуникативной обусловленности приобретает в этом плане, как нам думается, особую актуальность.
Языковая вариативность и практика нормирования
Влияние современных технологий СМИ на движение значений и связанные с ним механизмы языковых изменений по-разному оцениваются обывателями и социолингвистикой. На оси исторического времени вплоть до современного состояния языковых процессов жизнь технологий передачи на расстояние письменных, а тем более звуковых форм чрезвычайно мала по своей протяженности. По подсчетам П. Традгила, письменной традиции отведено не более 5 % истории существования языка, а электронным средствам и того меньше – примерно 0,1 % [Trudgill, 2014, p. 221]. Автор отмечает, что изменения были присущи языку во все периоды его существо- вания, задолго до технологических революций, давших человеку письменность и электронные средства передачи информации. Основные закономерности, которые приводят к изменениям, сокрыты преимущественно в прямом коммуникативном контакте (face-to-face communication), живой речевой деятельности людей и не возводятся к распространенному дилетантскому суждению о приоритетной роли СМИ. Она не может всерьез рассматриваться в случае с фонетическими и грамматическими изменениями, в отличие от лексических [Trudgill, 2014, p. 218].
Более того, Дж. Хьюз, рассуждая о вариативности современного английского языка в постколониальном контексте, обращает особое внимание на источники, формирующие лексическое ядро в разных стандартных вариантах этого языка. Он усматривает гораздо больше сходств между языком господствующих в мире журналистских практик СМИ, чем между речью индивидов в реальных сообществах носителей английского языка в разных странах (например, в Британии и Америке) [Hughes, 1989, p. 359]. Вместе с тем автор отмечает некоторые существенные изменения в ядре лексического состава современного английского, общие для разных вариантов этого языка, связывая их не только с технологическими инновациями последних десятилетий, но и с социокультурными последствиями глобализации при нарастающей американизации социальных практик. Одним из ярко выраженных признаков современного английского языка Дж. Хьюз считает рост подвижности границ между разными регистрами речи, что проявляет себя в конкретных группах лексем. Например, устаревание некогда центральных в ценностном плане лексем (sin, honour, soul, virginity); переход в сферу общеупотребительных слов экзотических (paparazzi, mafia, ghetto, assassin), специальных (stress, mess, guy, stuff), «классических литературных» (animal, basic, conversation, environment) лексем [Hughes, 2000, p. 369]. Если для создателей лексикографической традиции Оксфордского словаря на рубеже XIX и XX вв. главным ориентиром при отборе лексики и описании ядра лексического состава языка были лучшие образцы классической английской литературы, то специфика совре- менной эпохи, по утверждению Дж. Хьюза, заключается в том, что установить границы понятию литературного языка очень трудно, поскольку он впитал в себя огромные пласты обыденной просторечной и обсценной лексики, а образ литературного труда в настоящее время формируется на основе разнообразия новых критериев [Hughes, 2000, p. 335–336]. Эти особенности заставляют исследователя говорить о поиске новых подходов к описанию лексического ядра языка: он предлагает рассматривать данное понятие с опорой на критерий формальности, способной воплощаться в разных вариантах по шкале «более-менее» (formal, common, colloquial, slang, obscenity) и заменяющей прежнюю более жесткую категорию литературности [Hughes, 2000, p. 372–373].
Представляя специфику лексического состава английского языка в модели поля, группирующей разные лексическое слои вокруг общеупотребительного (common) ядра, Дж. Хьюз отмечает не только общую тенденцию к его неустойчивости, подвижности регистров речи, но и другие признаки, отражающие последствия американского «культурного империализма», брутализации (роста об-сценной составляющей), пересмотра рубрик культурных табу, характерных в большей мере для языка молодежи [Hughes, 2000, p. 396– 397]). Изменение чувствительности к содержанию социально табуизированных сфер лингвист связывает со сменой ценностных императивов. Из двух полюсов сферы табу – неподлежащего упоминанию всуе сакрального (прежде преимущественно ассоциировавшегося с вопросами веры и религии) и невыразимо порочного – центр тяжести в плане употребительности и эмоциональной силы явно сместился в сторону второго. Появившаяся новая сфера табу маркирует расовые, этнические признаки выходцев из Африки и Азии, в меньшей степени из Ирландии, Шотландии, Уэлльса ( nigger , paki , paddy , jock ) и др. [Hughes, 2000, p. 396–397] 2.
Подводя итоги краткому экскурсу в проблематику выявления ядра лексического состава, следует заметить, что в условиях постколониальной дивергенции английского языка, развития его вариативности на социокультурной основе, вопрос этносоциокуль- турной идентификации и использования языка в качестве ее инструмента выходит на первый план. Работа по поиску критериев научного описания языка в новообретенных форматах его вариативности не может не учитывать потребности в самоидентификации проживающих в разных странах и разной этносоциополитической реальности англоязычных народов. Во многих ключевых аспектах эта проблематика, которую можно также отнести к этнополитической социолингвистике, актуальна и для других мировых языков (включая русский) с характерной для них спецификой.
С развитием компьютерных технологий в лексикографии старые методы выявления ядра лексического состава с опорой на логический, историко-этимологический и историко-культурологический анализ лексического состава в его привязке к быстро уходящим в прошлое социальным практикам не смогут претендовать на самодостаточность. Стремление сохранить и сделать достоянием будущего богатство унаследованного от прошлого языкового наследия будет приходить в противоречие с психически актуальным использованием языка при отсутствии должного внимания к последнему со стороны профессионального сообщества, ответственного за фиксацию и нормирование языка.
Индивид и сообщество: сетевые модели в социолингвистике и культурная идентичность
При анализе языковой вариативности и социально обусловленных языковых изменений перед исследователем встает вопрос о содержании оппозиции «Индивид – Сообщество». Противоречия, которые она порождает, разрешаются, в частности, с помощью моделирования сети социальных контактов индивида, то есть выявления его отношений с другими индивидами: кто с ним общается, как часто, в каких именно условиях и контекстах, по каким поводам. Интенсивность и разветвленность индивидуальных контактов создают разноуровневую коммуникативную сеть социальных связей разной силы и плотности. Сам индивид рассматривается как субъект сетевых взаимодействий, представляющих собой кластеры родственных, дружеских, профессиональных и иных типов связей. Л. Милрой вводит понятие шкалы оценки сетевых характеристик говорящих (a Network Strength Scale), учитывающей обнаруженные в ходе полевых исследований параметры значимых контактов индивидов [Milroy, Gordon, 2003, p. 121]. В работах Дж. Милроя, Л. Милрой [Milroy, 1987; Milroy, Milroy, 1985] и других ученых выявляется зависимость между плотностью (силой или слабостью) коммуникативной сети, ее разветвленностью, тенденцией к внутренней интеграции и закрытости или наоборот, открытости для внешних контактов, и склонностью языка, который используется интегрированными в сеть индивидами, к изменчивости (или сохранности). Рассматривалось также влияние географической и социальной мобильности говорящих, сфер их экономической занятости, потребностей в идентификации и иных социально значимых аспектов жизнедеятельности на характер сети социальных контактов и соответствующие индексы интегрированности в нее говорящих. Было показано, что чем выше индекс плотности сети социальных контактов, тем глубже интегрирован говорящий в свое сообщество [Milroy, Gordon, 2003, p. 121]. Особо интересны для нас исследования процессов ослабления социокоммуника-тивной сети с вытекающими отсюда количественными и качественными последствиями для активизации языковых изменений [Milroy, Gordon, 2003, p. 127–130]. Эти параметры представляются нам актуальными для рассмотрения движения значений слов в постсоветском контексте.
Мы исходим из того, что формирование индивидуальной сети социальных контактов в значительной степени зависит от условий внешней среды. В онтогенезе социокоммуни-кативная сеть первична по отношению к субъекту как данность, подлежащая интери-оризации наряду с другими предметно-содержательными культурными реалиями, включая тела языковых знаков и ассоциированные с ними значения, то есть язык как внешний объект. Ребенок испытывает воздействие социокоммуникативной сети длительное время, адаптируясь к ней и не будучи в состоянии произвольно управлять ею. В использовании и интерпретации полученных с помощью сетевых моделей данных, по нашим наблюдениям, можно наметить два подхода. Первый (удобен для изучения языковой интеграции малых социальных групп) – трактовка сети социальных контактов как индивидуального феномена, то есть достояния индивида. Назовем его условно «приоритет индивида». Он реализуется в работах большинства социолингвистов-англистов (cм., например: [Hudson, 2007; 2010; Milroy, 1987; Milroy, Milroy, 1985]), которые критикуют традиционное понятие языкового сообщества (speech community) как относительно изолированного, имеющего преимущественно географическую локализацию образования. Такой подход представляется им неэффективным для объяснения динамики привнесенных глобализацией процессов социальной и языковой вариативности. Альтернативно предлагается трактовка места пребывания сообщества в качестве культурного концепта (для которого больше подходит английский термин «community of practice»), пригодного для изучения социолингвистических процессов в миграционном контексте [Milroy, Gordon, 2003, p. 134].
Второй подход декларирует приоритет сообщества, которое, как показывает на примере сдвига гласных Северных городов в США У. Лабов, концептуально (в культурноисторическом и когнитивном плане) первично по отношению к индивиду [Labov, 2010, p. 208– 235]. Сдвиг гласных Северных городов представляет собой важный маркер территориальной вариативности американского английского по границе континентального Севера и Центрального ареала. Эта граница, как свидетельствуют данные ANAE и специальные эксперименты на распознавание локализации информантов, уже более века является самой выраженной и устойчивой в диалектном континууме США [Labov, 2010, p. 235]. Последовательная реализация сдвига в городах Севера контрастирует с гетерогенностью вокалических систем городов Центрального ареала [Labov, 2010, p. 214]. Несмотря на то что сдвиг гласных Северных городов остается в поле неосознанного социального смысла, У. Лабов считает возможным трактовать его как эффект утвердившегося в течение нескольких поколений культурного империализма янки (Yankee Cultural Imperialism). Подробный ана- лиз культурной специфики ведения хозяйства и идеологической организации сообществ на новых землях в ходе продвижения на Запад старожильческого населения южан нагорья, сформировавших поселения центральных ареалов с одной стороны, и янки, продвигавшихся из разных регионов Новой Англии с другой, показал, что последние, в отличие от первых, продвигались целыми сообществами с высокой степенью сохранности взрослого населения на новой территории по истечении 10 лет. Янки строили города, располагая дома вдоль оживленных дорог, из-за особого внимания к грамотности школы и колледжи строились в приоритетном порядке. Южане же продвигались одиночными семьями и малыми группами, останавливаясь в изолированных сельских районах и не задерживаясь долго на новых местах [Labov, 2010, p. 213]. Организация жизни сообществ янки обеспечила продолжительный, постоянный контакт (преемственность) среди детского населения и сделала возможной целостную передачу фонологической системы на Севере. У. Лабов приходит к выводу о том, что речевое поведение индивида вряд ли может быть адекватно истолковано без знания сообщества, к которому он принадлежит. В рассматриваемом случае движущие механизмы звукового изменения на Севере передаются через культурную преемственность, предшествующую личному опыту индивида. Она не сводится только к непосредственному сетевому взаимодействию (face-to-face interaction). Член сообщества, осваивающий культурно значимые языковые формы, получает информацию о них в опыте, однако этот опыт далек от непосредственной актуальной коммуникации [Labov, 2010, p. 368–369]. Видимо, здесь У. Лабов имеет в виду то, что этот опыт не порождается в текущей коммуникативной ситуации, как другие социально маркированные смыслы, а является когнитивным и культурным наследием прошлого, закрепленным в разных видах деятельности. Автор также приводит показательные факты, подтверждающие, что такого рода информация усваивается детьми не старше 9–10 лет, поэтому в речи тех, кто оказался на Севере в более позднем возрасте, сдвига гласных не наблюдается [Labov, 2010, p. 8–9].
Ассоциативно-вербальная сеть и динамика социокоммуникативных установок русской языковой личности
Нам представляется, что сетевые подходы должны учитывать следующий факт: малые социальные группы как исходные ячейки социокоммуникативной сети не находятся в вакууме, они включены в смысловое поле культуры, в котором действуют свои законы смыс-лообразования (смыслоутратности). Не только отдельные представители народов постсоветского мира, но и сами эти народы остаются частями большой социокоммуникативной среды в общегосударственном воплощении на суперэтническом (цивилизационном, общероссийском) уровне. Влияние общего для российской цивилизации смыслового поля культуры имеет разную интенсивность (силу, плотность) и экстенсивность (разветвленность, охват) в разных его частях (локусах) с прототипическими и менее явными, периферийными признаками. В СССР длительное время наблюдалась высокая устойчивость социокоммуни-кативных сетей с внутренней направленностью векторов интересов коммуникантов. Конец 80-х и 90-е гг. прошлого века отмечены значительными и глубокими изменениями со-циокоммуникативного плана.
В постсоветский период динамика со-циокоммуникативных сетей определялась воздействием целого комплекса факторов. Среди них: ликвидация партийно-хозяйственного и идеологического организующих начал, приведшая к радикальной смене характера экономической деятельности при распаде прежних производственных связей; обвальная деиндустриализация; повышенные ожидания от новых рыночных регуляторов и непонимание реальных механизмов работы капиталистического рынка. Отсутствие у большинства советских людей опыта общения с внешним миром на фоне открытия границ привело к оживлению внутренних и внешних миграционных процессов, смещению вектора интересов больших групп населения с внутреннего на внешний. Все это создало экстремальную ситуацию для большей части населения бывшего СССР. Характерный для смутного времени кризис подлинности (идентичности) проявил себя в кон- фликтности обессмысливающих друг друга смысловых образований в сознании людей. Это состояние личности психологи называют смыслоутратностью [Магомед-Эминов, 1998, с. 37]. Мы предполагаем, что противоречия смыслоутратности как социокультурного феномена независимо от их осознаваемости могут отразиться на социокоммуникативных установках языковой личности в тот период времени, когда они были для нее актуальны. Именно эти противоречия определяют в значительной мере и те деформации в языковой политике, которые были допущены в эпоху перестройки. Их исследование предполагает включение психологического фактора в рассмотрение социолингвистических реалий, поэтому может производиться в настоящее время с опорой на сетевую ассоциативно-вербальную модель «языка в человеке». С развитием ассоциативной лексикографии в последние десятилетия российская психолингвистика получила в свое распоряжение источники (ЕВРАС, РАС, САНРЯ, СИБАС) 3, позволяющие оценивать динамику смысловых систем у нового поколения носителей русского языка. Преимущества такой модели, как ассоциативно-вербальная сеть (АВС) заключаются в ее актуальности и активности, доступности для статистической обработки и анализа всего массива ассоциатов (макроуровень) и отдельных ассоциативных полей (АП) (микроуровень). На макроуровне возможно не только выявить необходимое для системного анализа психически актуальное лексическое ядро (ассоциативные доминанты языковой личности), но и построить прилегающие к нему в разной степени удаленности и укорененности связей лексические слои, что очень важно для оценки вариативности языка и выработки стратегии его нормирования. Постоянное пополнение и обновление экспериментальной базы вербальных ассоциатов уже в настоящее время создает условия для исследований актуальной диахронии (с возможностью отслеживать динамику сети в пределах трех-четырех поколений).
Массовый ассоциативный эксперимент, проведенный в азиатских регионах России, выявил «ассоциативных лидеров» (на начало 2014 г.) по количеству реакций: человек (10 011), деньги (4 036), дом (2 584), друг (2 342). По количеству стимулов (укорененности смыслов в разнообразии связей) это: человек (450), жизнь (345), дом (335), деньги (263), хорошо (261), плохо (260), друг (253), нет (235), мир (232), я (230) (СИБАС). Сходную, хотя и не совсем идентичную, системную иерархию находим и в европейской части России: человек (594), жизнь (497), дом (465), плохо (269), хорошо (264), нет (257), деньги (249), мир (240), друг (236), я (215). (Данные ЕВРАС взяты из [Уфимцева, 2017, с. 95].) Сопоставление с рейтингом ассоциатов прошлого века показывает существенное продвижение ассоциата деньги (с 19-й позиции в САНРЯ на 8-ю в РАС, с сохранением лидерства в первой десятке в XXI в.) и я (не вошедшего даже в список первых тридцати лидеров САНРЯ, но начавшего постепенное восхождение в период перестройки и стремительно переместившегося в первую десятку лидеров ядра в XXI в.). Это отражает прошедшую смену предметно-содержательного опыта новых видов деятельности после перестройки и соответствующие сдвиги в социокультурных установках русской языковой личности. «Монетаризацию», как и другие отмеченные Дж. Хьюзом устойчивые изменения, можно отследить на микроуровне на материале отдельных сегментов АВС при сравнении данных нескольких десятилетий. Проведенные нами на этапе редактирования материалов СИБАС исследования показали, что в культуре пользования языком произошли серьезные трансформации. Заметна «бру-тализация» языкового сознания молодых россиян, что отражается не только в новоявленной прагматичности смыслов, небывалом наплыве прежде табуизированных форм вербальной оценки, но и в вытеснении реалий своего культурного поля на периферию смысловой структуры сознания. Пустота заполняется вульгарными инородными реалиями. «Бру-тализация» и «этнизация» языкового сознания отмечаются и на макро-, и на микроуровнях АВС носителей русского языка.
Психически актуальные социально обусловленные процессы могут быть выявлены и описаны в терминах психоглосс 4, позволяющих увидеть трансформацию социально и культурно обусловленных лексических значений в поле личностных смыслов испытуемых. Здесь мы исходим из принятой в российской психолингвистике модели сознания как динамического процесса, в котором выявляются чувственная ткань образа, обеспечивающая субъекту связь с внешним миром, значения и личностный смысл. Чувственная ткань и личностный смысл психофизиологичны, индивидуальны; значения же надиндивидуальны, как социально-культурный продукт, результат коллективного опыта взаимодействия с ушедшим предметно-содержательным миром, они не психофизиологичны. Личностный смысл – это результат присвоения значений субъектом. Поэтому «движение значений» есть процесс смыс-лообразования, воплощение значений через чувственную ткань и личностный смысл у ныне живущих субъектов (более подробно о структуре сознания см.: [Леонтьев, 2005, с. 91–96]). Онтогенетически, «вживляясь» в окружающую среду в ходе активной деятельности, человек интериоризирует («вращивает» внутрь) через чувственную ткань и личностные смыслы весь свой вербальный и социокоммуникативный опыт взаимодействия с миром. АВС как часть когнитивной сети человека содержит проекцию социокоммуникативной сети испытуемых, что дает нам шанс на изучение следов ее функционирования, которые сигнализируют о социоком-муникативных установках языковой личности применительно к актуальному использованию языковых знаков. АВС должна отразить в той или иной мере ослабление (или наоборот, усиление) связей внешней социокоммуникативной сети. Это можно проверить на макро- и микроуровнях анализа. Выявить изменчивость, измерить и интерпретировать ее можно, в частности, с помощью когнитивных и мотивационно-прагматических психоглосс, показывающих векторы смыслообразования или смыслоутрат-ности у языковой личности.
В отличие от моделей индивидуальных кластеров внешних сетей социальных контактов АВС представляет собой комплексный, многомерный объект, способный отразить все факторы (включая осознаваемые и частично неосознаваемые), попадающие под рубрику социальных (social dimensions). Экспериментально доказанная возможность получить через АВС доступ к усредненной языковой личности и фундаментальные положения о ее природе, выработанные в отечественной на- уке на русском материале [Караулов, 2010], мотивируют ученых использовать ассоциативно-вербальные методики для исследования процессов социокультурной идентификации. АВС пригодны для анализа социально и культурно значимых явлений, которые могут представлять интерес не только сами по себе, но и в качестве условий для возникновения языковой вариативности и языковых изменений.
Под социокоммуникативными установками мы понимаем установки на использование тех или иных вербальных единиц в определенных отношениях и связях, выработавшихся в ходе сложившихся в рассматриваемый период социокоммуникативных практик. Интенсивность (сила) связей ассоциатов в сети находит отражение в частотных показателях: единожды встретившиеся ассоциаты условно выделяются как периферия АП, а все повторяющиеся с разной частотностью – как ядро, что не исключает разную степень интенсивности его компонентов. Экстенсивность (укорененность в разнообразии связей) измеряется количеством разных реакций в структуре АП.
Рассмотрим некоторые признаки динамики смысловых процессов на примере АП «народ» (см. табл. 1) в связи с отмеченным нами ослаблением сети социальных контактов во внутреннем пространстве бывшего СССР.
В АП «народ» отчетливо выявляется 6 смысловых зон. Статистика их интенсивности в САНРЯ, РАС, СИБАС и ЕВРАС (в процентах от общего количества реакций в устойчивой части и на периферии) приводится в таблице 2.
Психоглоссы, которые выявляются при анализе конкретных ассоциатов в каждой смысловой зоне, отчетливо показывают движение доминантных смыслов во времени. Это движение поддается интерпретации в контексте оппозиций: народ (люди) vs. толпа ; о нтологическое единство vs. случайное сборище, безликая масса ; народ vs. скот ; а ктивность, целеполагание vs. пассивность, стихийная спонтанность ; планетарность vs. местечковость ; глобально общегосударственный, цивилизационный vs. локально этнический, национально-расовый контекст ; т рудовая деятельность vs. развле-
Таблица 1
Сравнительный анализ АП «народ» в САНРЯ, РАС, СИБАС и ЕВРАС
|
Общая структура и наполнение ассоциативных полей |
САНРЯ (1970-е гг.) |
РАС (1988–1997) |
СИБАС (2008–2013) |
ЕВРАС (2008–2013) |
|
Разные |
75 |
67 |
205 |
185 |
|
Единичные |
54 |
52 |
154 |
124 |
|
Устойчивые |
148 |
57 |
342 |
401 |
|
Отказы |
0 |
0 |
6 |
8 |
|
Всего реакций |
202 |
109 |
502 |
533 |
Таблица 2
Статистика интенсивности смысловых зон в АП «народ», %
|
САНРЯ (1970-е гг.) |
РАС (1988–1997) |
СИБАС (2008–2013) |
ЕВРАС (2008–2013) |
|
Зона 1. Номинации, дефиниции, раскрывающие суть понятия |
|||
|
36,48 (11,11) |
38,59 (73,33) |
55,84 (41,86) |
53,11 (33,33) |
|
16,66 (1,58 ) |
15,38 (6,66) |
15,58 (2,78) |
14,51(3) |
|
Зона 2. Какими качествами обладает народ, какой он |
|||
|
23,64 (0) |
19,29 (53) |
12,86 (26,92) |
12,71 (32,55) |
|
29,62 (0) |
36,84 (31,25) |
22 (16,66) |
28,22 (15,11) |
|
Зона 3. Народ как субъект деятельности и объект воздействия |
|||
|
0 (0) |
10,52 (22,22) |
2,33 (37,93) |
2,24 (42,85) |
|
7,4(0) |
5,76 (22,22) |
13,63 (37,93) |
15,32 (35,71) |
|
Зона 4. Локации, место развития, где находится народ |
|||
|
2,7 (0) |
7(0) |
9,35 (1,69) |
9,72 (0) |
|
12,96 (0) |
7,69 (0) |
17,53 (1,69) |
12 (0) |
|
Зона 5. Принадлежность, причастность (идентификационная матрица) |
|||
|
29 (0) |
12,28 (0) |
9,94 (2,27) |
13,96 (0) |
|
5,55 (0) |
11,53 (0) |
6,49 (2,27) |
4,83 (0) |
|
Зона 6. Атрибуты (материальной и духовной культуры), |
|||
|
свойства (черты характера, ценности) и права |
|||
|
7,43 (3,7) |
10,52 (6,25) |
9,64 (23,94) |
8,22 (16,12) |
|
29,62 (3,7) |
19,23 (6,25) |
24,67 (11,26) |
3,38 (8,06) |
Примечание . Данные по ядру каждой зоны приводятся первыми, периферии – вторыми. В скобках указывается % негативно-оценочных ассоциатов от общего количества реакций в каждой зоне.
чения и гедонизация ; позитивно vs. негативно оценочные смыслы . В разные периоды времени в каждой из смысловых зон центр тяжести смещался в ту или иную сторону в пределах каждой из этих оппозиций, а специфическое сочетание совокупно явленных при этом смысловых воплощений (граней) образа «народ» соответствовало специфике эпохи. Так, в 70-е гг. прошлого века (САНРЯ) образ народа устойчиво позитивен, непротиворечив: народ выступает как творческая (движущая) сила, имеющая статус нации и способная к целеполаганию, как творец, победитель и тру-женник. В перестройку (РАС), напротив, центр тяжести первой зоны переместился в сторону тотального негатива. Ср.: САНРЯ: люди 39; толпа 6; масса 5; нация , творец 2; РАС:
толпа 16; быдло , массы , стадо 2 5. Признаки смыслоутратности характерны и для зоны 2: исключительно позитивный и самодостаточный образ 70-х гг. уступил место негативно-оценочному перестроечному, с акцентами озлобления , глупости , голода и бедности , страдания и загнанности. В зоне 6 устойчиво самодостаточные сила , дружба и труд в ядре САНРЯ сменяются политизированными ассоциатами с партией , дополненными целым рядом единичных, создающих противоречивую картину жалостливости и бунта на фоне политических реалий перестройки ( выборы , Ельцин и пр.).
В XXI в. (ЕВРАС, СИБАС) у детей смутного времени смыслоутратность не преодолена. Негативная оценочность охватывает практически все зоны. Отраженный в них автостереотип противоречив и неустойчив. Так, члены оппозиции народ (люди) vs. толпа почти равновесны, конкретное содержание других ассоциатов претерпело существенную трансформацию в сторону акцентуаций национального, местечкового родоплеменного и даже расового контекста. Сказывается отсутствие у молодых людей единого целеполагания, совместного опыта деяний цивилизационного формата. В РАС фиксируется значительная расшатанность социокультурной идентичности, в СИБАС и ЕВРАС отражается некоторая мобилизация сознания, восстановление утраченного в перестройку позитива, но образ все еще противоречив. Народ предстает скорее как ведомая враждебно-шумящая и объединяющаяся против власти толпа, чем организованная, способная к жизнестойкому целеполаганию сила. К озлоблению с 90-х гг. добавились негативные смыслы обманутости, нищеты, жестокости, враждебности и дикости (варварства). Проявляются смыслы, характерные для господства гедонистической модели как фактора толпообразования. Яркие противоречия между жизнью и смертью, весельем, гуляньем и ликованием с одной стороны, и озлоблением, голодным бунтом яростной и бушующей «обманутой» толпы с другой. Преобладающие в зоне 4 САНРЯ элементы планетарного мышления почти исчезают в РАС, значимость событий внутри страны (СССР) выходит на первый план. В СИБАС и ЕВРАС фиксируется частичное восстановление картины с абсолютным преобладанием контекста страны-России и местечковых смыслов. В зоне 5 САНРЯ суперэтническая идентификация (советский) – самая устойчивая. На фоне радикализации идентифицирующих переоценок 90-х гг. усиливается этнический контекст: русский подавляет советский. Российская идентичность (новообразование XXI в.) явно выражена в СИБАС, в то время как в ЕВРАС она присутствует в импликациях многонациональный и православный. Здесь ярче выражен именно русский (супер)этнический план. Зона 6 претерпела кардинальную содержательную перестройку. Из прежних устойчивых реакций советского времени воспроизводится только сила. Труд, дружба, армия, партия и даже культура с историей уже не актуальны для нового образа. В нем преобладают акценты на демократии, власти и силе, вхожи новые смыслы единения, государственности, выборов, верности, свободы и пр. Ядро устойчиво насыщается негативными смыслами толпооб-разования (бунт, восстание, глупость), которые усиливаются за счет периферии. Ощущение разобщенности, характерное для местечкового образа народа, порождает тенденцию к единению (сплочению) в новое время, для многих не подкрепленную иными видами деятельности кроме развлечений.
Выводы
Ассоциативно-вербальные сетевые модели, будучи гибкими динамическими системами, отражают структуру и содержание социокоммуникативных установок языковой личности с учетом изменчивости ее смысловых акцентов. Вербальные ассоциации несут информацию об этносоциокультурных сферах, в которых осуществляются коммуникативные акты и кристаллизуется мотивационная структура языковой личности. Такие трансформации в сети социальных контактов сообщества носителей русского языка, как смена ее ориентации (внутрь – вовне), сфер деятельности и социально-экономического уклада, ослабление связей и плотности контактов приводят к трансформации социоком-муникативных установок, что становится очевидным в пределах АВС трех поколений и маркируется статистикой психоглосс (направленности смысловых акцентуаций). Изменения социокоммуникативных установок могут стать социально и психически обусловленной базой для будущей трансформации значений слов. Изучение вариативности и языковых преобразований в пределах актуальной диахронии при условии накопления новых экспериментальных данных может способствовать развитию ассоциативной вари-антологии и этнополитической социолингвистики. Экспериментально полученные сетевые модели «языка в человеке» должны использоваться при взаимной верификации данных, полученных иными социолингвистическими методами.
Список литературы Динамические модели в социолингвистике и социокоммуникативные установки русской языковой личности в постсоветский период
- Губогло М. Н., 2016. Этносоциология и этнополитология в системе междисциплинарного знания // Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии / отв. ред. и сост. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН. С. 70-77.
- Караулов Ю. Н., 2010. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М.: Изд-во ЛКИ. 264 с.
- Леонтьев А. Н., 2005. Лекции по общей психологии. М.: Смысл: КДУ. 511 с.
- Магомед-Эминов М. Ш., 1998. Трансформация личности. М.: ПАРФ. 494 с.
- Тишков В. А., 2016. Новая политическая антропология // Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии; отв. ред. и сост. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН. С. 100-105.
- Уфимцева Н. В., 2017. Этнопсихолингвистика как раздел теории речевой деятельности // (Нео)психолингвистика и (психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем: коллектив. моногр. / И. А. Бубнова, И. В. Зыкова, В. В. Красных, Н. В. Уфимцева; под ред. В. В. Красных. М.: Гнозис. С. 21-96.
- Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии, 2016 / отв. ред. и сост. Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН. 458 с.
- Шапошникова И. В., 2018. Психоглоссы, маркирующие цивилизационную идентификацию российских студентов (по материалам массовых ассоциативных экспериментов) // Сибирский филологический журнал. № 3. С. 255-273.
- DOI: 10.17223/18137083/64/23
- Chambers J. K., Trudgill P., 2004. Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press. 201 p.
- Eckert P., Labov W., 2017. Phonetics, phonology and social meaning // Journal of Sociolinguistics. Vol. 21, iss. 4. P. 467-496.
- Hudson R. A., 2007. Language Networks. The New Word Grammar. Oxford: Oxford University Press. 275 p.
- Hudson R. A., 2010. An Introduction to Word Grammar. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 332 p.
- Hughes G., 1989. Words in Time. A Social History of the English Vocabulary. Oxford: Basil Blackwell. 271 p.
- Hughes G., 2000. A History of English Words. Oxford: Blackwell Publishers. 428 p.
- Labov W., 1994. Principles of Linguistic Change. Vol. 1. Internal Factors. Oxford: Basil Blackwell. 664 p.
- Labov W., 2001. Principles of Linguistic Change. Vol. 2. Social Factors. Oxford: Blackwell Publishers. 592 p.
- Labov W., 2007. Transmission and diffusion // Language. № 83. P. 344-387.
- Labov W., 2010. Principles of Linguistic Change. Vol. 3. Cognitive and Cultural Factors. Oxford: Wiley-Blackwell. 448 p.
- Milroy J., Milroy L., 1985. Linguistic change, social network and speaker innovation // Journal of Linguistics. Vol. 21, iss. 2. P. 339-384.
- Milroy L., 1987. Language and Social Networks. 2nd ed. Oxford: Blackwell. 232 p.
- Milroy L., Gordon M., 2003. Sociolinguistics: method and interpretation. Malden: Blackwell Publishing Ltd. 261 p.
- Trudgill P., 2014. Diffusion, drift, and the irrelevance of media influence // Journal of Sociolinguistics. Vol. 18, iss. 2. P. 214-222.
- Wolfram W., Schilling-Estes N., 2006. American English. Dialects and Variation. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing Ltd. 452 p.
- ЕВРАС - Русский региональный ассоциативный словарь-тезаурус ЕВРАС / сост. Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. 2014. URL: http://iling-ran.ru/main/publications/evras (дата обращения: 03.03.2019).
- РАС - Русский ассоциативный словарь / сост. Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. М., 1994-1998. Т. 1-2. URL: http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php (дата обращения: 03.03.2019).
- САНРЯ - Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/Leont/Index.htm (дата обращения: 03.03.2019).
- СИБАС - Русская региональная ассоциативная база данных. Сибирь и Дальний Восток - 2008-2018 / авт.-сост.: И. В. Шапошникова, А. А. Романенко. URL: http://adictru.nsu.ru (дата обращения: 03.03.2019).