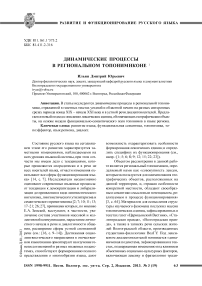Динамические процессы в региональном топонимиконе
Автор: Ильин Дмитрий Юрьевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются динамические процессы в региональной топонимике, отраженной в газетных текстах уездной и областной печати на разных синхронных срезах периода конца XIX - начала XXI века и в устной речи диалектоносителей. Предлагается новый подход к описанию лексических единиц, обозначающих географические объекты, на основе модели функционально-семантического поля топонимов в языке региона.
Развитие языка, функциональная семантика, топонимика, топоэффектор, язык региона, диалект
Короткий адрес: https://sciup.org/14969739
IDR: 14969739 | УДК: 811.161.1373.2
Текст научной статьи Динамические процессы в региональном топонимиконе
Состояние русского языка на сегодняшнем этапе его развития характеризуется заметными изменениями, наблюдаемыми на всех уровнях языковой системы, при этом «отчасти мы имеем дело с тенденциями, которые проявляются спорадически и в речи не всех носителей языка, отчасти изменения охватывают все сферы функционирования языка» [14, с. 7]. Исследователи неоднозначно оценивают современные языковые процессы: от тенденции к демократизации и либерализации до проявления в виде лингвистического нигилизма, лингвистического утилитаризма и семантического примитивизма [2; 7; 10; 11; 13; 17–21; 26; 27], причинами которых, по мнению Е.А. Земской, выступают, в частности, увеличение состава участников массовой и коллективной коммуникации, нарастание личностного начала в речи и диалогичности общения, расширение сферы устной спонтанной речи (см.: [16, с. 9–14]). Достижения социолингвистического направления в отечественном языкознании ориентируют на изучение генезиса изменений в разных языковых подсистемах, способствуют формированию полного представления о многообразии языка, дают возможность охарактеризовать особенности формирования лексических единиц и определить специфику их функционирования (см., напр.: [1; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 22; 23]).
Объектом рассмотрения в данной работе является региональный топонимикон, определяемый нами как «совокупность лексем, которые используются для наименования географических объектов, расположенных на данной территории, и, отражая особенности конкретной местности, обладают своеобразным семантико-смысловым потенциалом, реализуемым в процессе функционирования» [3, с. 64]. Материалом для осмысления структуры изучаемого феномена послужил массив топонимических единиц, зафиксированных в текстах газет «Царицынский Вестник», «Сталинградская правда», «Волгоградская правда», а также в записях речи сельских жителей Волгоградской области, произведенных студентами-филологами ВолГУ. Под лексиконом диалектоносителей понимается «динамическая подсистема, зафиксированная в текстах, подверженная изменению под влиянием объективных социально-культурных факторов, включающая лексику и фразеологию тради- ционного диалекта и новые элементы, характеризующая мировосприятие (ценностные ориентиры) личности» [24, с. 4].
Опираясь на мысль Р.О. Якобсона о том, что «языковые изменения относятся к динамической синхронии» [28, с. 413], применительно к проблематике исследования понятие «динамические процессы» мы соотносим с функциональными сдвигами в лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической подсистемах русского языка; динамические процессы в региональной топонимике, направленность которых имеет сложный центробежный и центростремительный характер (см.: [25]), выявляются при сопоставлении полевых структур, моделируемых на разных синхронных срезах периода конца XIX – начала XXI в., и формируются под влиянием функционально-семантических изменений, катализатором которых выступает топо-эффектор – «комплексный механизм, индуцирующий возникновение и определяющий направление данных изменений, основной и/или дополнительный фактор (экстралингвистичес-кого, собственно лингвистического порядка), способствующий активному / пассивному употреблению топонимических единиц в газетных текстах, актуализации, усилению либо затуханию семантического признака в значении проприатива, обусловливающий изменение структуры онима, функционирование двойных названий, в том числе в случаях переименования географического объекта, и др.» [4, с. 61–62]. Введенное нами понятие позволяет сопоставить специфику языковых явлений, функционирующих в разновременных газетных текстах, с учетом причин как экстра-лингвистического, так и внутриязыкового характера. Семантический объем нового термина отвечает задачам исследования, проводимого на региональном материале, и позволяет охарактеризовать причины динамических процессов, нашедших отражение в русском языке конца XIX – начала XXI века.
Проанализированный массив фактов позволяет рассматривать совокупности региональных географических названий, зафиксированных в разновременных газетных текстах, как полевые единства, имеющие сегментную структуру, существенными признаками которой являются наличие инвариантного семан- тического признака, иерархическая организация, ограниченность семантико-смыслового пространства, сопредельность с другими сегментными структурами и проницаемость.
В плане содержания инвариантными семантическими признаками сегментных структур, коррелирующих с тематическими группами онимов «Административно-территориальные единицы, города и другие населенные пункты», «Водные пространства, водоемы», «Рельеф местности, природные образования», «Участки суши, омываемые водами или прилегающие к водоемам», являются ‘пространство, предназначенное для проживания людей’, ‘пространство, заполненное водой’, ‘пространство (части) земной поверхности’, ‘пространство (участок) земной поверхности, окруженное водой’.
В плане выражения вершинную часть каждого сегмента образуют стилистически нейтральные языковые единицы, имеющие высокий семантико-прагматический потенциал и значительный ассоциативный объем названия, отличающиеся широкой сочетаемостью, большой частотностью употребления, регулярностью использования в текстах разновременных газет конца XIX – начала XXI в., последовательно реализующие при употреблении функции имени собственного. Срединную часть сегмента составляют проприати-вы, обладающие невысоким семантико-прагматическим потенциалом, незначительным ассоциативным объемом названия, не отличающиеся регулярностью использования и большой частотностью употребления в газетных текстах, непоследовательно реализующие функции, свойственные топонимам. Окраинную часть сегмента образуют малочастотные в газетных текстах ономастические единицы, смысловое наполнение которых зависит от сочетания с апеллятивом и контекстуального окружения.
Сопоставление фактов, соотносимых с выделяемыми синхронными срезами конца XIX – начала ХХ в., середины ХХ в., конца ХХ – начала XXI в. в развитии русского языка, дает основания утверждать, что на функционально-семантическом уровне топонимические единицы, используемые в газетных текстах и составляющие структуру сегментов, имеют полевую организацию, в которой разграничиваются ядро, ближняя и дальняя периферия. Ядро образуют вершинные части сегментов, ближнюю периферию составляют элементы срединной части сегментов, дальнюю периферию – конституенты, относимые к окраинной части сегментов.
Функционально-семантические изменения в региональной топонимике, зафиксированные в текстах уездной и областной печати, обусловлены перестройкой внутрисегментных иерархических отношений языковых единиц, изменением состава элементов, структурирующих сегменты, ядерную и периферийную сферы полевого единства, появлением контекстуальных образно-переносных, символических и концептуальных значений, что, в свою очередь, детерминирует динамические процессы в названном семантическом объединении.
Анализируемый массив фактов дает основания утверждать, что одним из динамических процессов в региональном топонимиконе является разнонаправленное действие тенденций к аналитизму и синтетизму в структуре имени собственного, что находит отражение в функционировании как официальных наименований объектов, так и принятых в речи местных жителей, например: Около с. Каменный Яръ поднялся сильный штормъ (ЦВ, 14.08.1911). – В селе КамъЯръ найденъ сто-рожъ, котораго искали за хищенiе (ЦВ, 12.12.1910). Записи устной речи диалектоно-сителей отражают, в частности, процесс переименования, например: Радилась я вот атсюдава десить киламитраф. Ана называлась раньши Якушофка , а щас Калинаф-ка (Бароменская П.П., 1931 г. р.) 2, наблюдается проявление случаев народной этимологии, например: Нахайловка там 3–4 дома, где я родылась. Посылылись нахально сами соби. Они нахально и Нахайловкой прозвали (Магомедова В.Д., 1950 г. р.).
Сопоставление синхронных срезов конца XIX – начала ХХ в. и середины ХХ в. при полевом моделировании регионального топо-нимикона высвечивает в ядерной сфере такой динамический процесс, как сужение семантического объема языковой единицы. Например, топоним Дар-гора в газете «Царицынский Вестник» употребляется в прямом значении, что позволяет идентифицировать ороним: Конаковъ отправился къ своимъ ро- дителямъ, проживающимъ въ гор. Царицыне на возвышине Дар-горы (ЦВ, 05.10.1914), в то время как в публикациях «Сталинградской правды» названный пропри-атив при актуализации дифференциальной семы ‘место проживания людей’ используется в переносном значении «административно-территориальное поселение»: Капитальный ремонт получат две главные улицы на Дар-горе – Ардатовская и Кузнецкая (СП, 01.02.1950). Процесс расширения семантического объема ономастической единицы получает воплощение при функционировании топонима Мамаев курган. Например, указание на определенную возвышенность, сопровождаемое отсутствием в семантике лексемы книжной стилистической окраски, реализуется в высказывании Есть на Мамаевом кургане один небольшой родничок (СП, 22.05.1945). Функционирование названного проприатива в текстах конца ХХ – начала XXI в. отражает то название, которое появилось в 1960-х гг. после открытия памятника защитникам Сталинграда в годы Великой Отечественной войны: В Зале воинской славы на Мамаевом кургане были возложены цветы и венки (ВП, 31.12.1998). Апеллятив курган обогащает имя собственное дополнительным смыслом, оценочной окраской и становится в приведенном и других контекстах не только названием возвышенности, но и экспрессивным заместителем нарицательного имени (СКИС, с. 11), так как совмещает в своей семантике признаки двух лексико-семантических парадигм – с нейтральным и высоким, книжно-символическим значением – места, в котором «покоится» и сосредоточивается слава русских воинов.
Расширение семантического объема лексической единицы и появление новых значений как один из динамических процессов в региональном топонимиконе находит подтверждение при функционировании топонима Дон в разновременных газетных текстах. В публикациях конца XIX – начала ХХ в. названный оним использовался по преимуществу в прямом значении при реализации интегральных сем ‘пространственная локализован-ность’, ‘функциональная роль’, ‘расположение’ для описания географического разнообразия местности: Положенiе некоторыхъ ста- ницъ, лежащихъ на низменномъ берегу Дона, критическое (ЦВ, 30.01.1915). В материалах «Сталинградской правды» наблюдается функционирование проприатива Дон в разнообразных переносных значениях: «часть территории, расположенная поблизости от водоема»: 24 июля 1942 года на Дону в районе Калача была потушена последняя ночная обстановка (СП, 21.07.1945); «территория около водоема, на которой произошло какое-либо событие»: …Победы на Дону наполнили их [ленинградцев] сердца доблестью за Красную Армию (СП, 09.05.1944); «совокупность людей, проживающих около водоема»: Дон на протяжении всей истории неоднократно защищал Волгу… (СП, 21.07.1945). Топоэффектором в этом случае выступает взаимодействие факторов экстралингвистического и собственно лингвистического порядка.
Сопоставление массива фактов дает основания утверждать, что в качестве топоэф-фектора могут выступать только экстралинг-вистические факторы, что детерминирует, в частности, динамический процесс элиминирования денотата топонима. Так, топоним Козий , обозначающий перекат на реке и зафиксированный в текстах «Царицынского Вестника»: Около переката Козьега есть хорошiе заливные луга (ЦВ, 12.06.1911), после исчезновения географического объекта стал употребляться в газетных публикациях для наименования населенного пункта, расположенного на территории бывшего водного пространства: Славится поселок Козий , как понятно, козьим пухом (ВП, 06.05.1999).
Необходимо отметить, что под влиянием функционально-семантических изменений происходят динамические процессы, отражающие перераспределение активности прямых и переносных употреблений онима и его функциональной значимости в разновременных газетных текстах в связи с воздействием эк-стралингвистических факторов, усиление роли регионального топонимикона как стилистического ресурса и топонимической лексики как социально-оценочного средства газетной публицистики.
В массиве фактов зафиксированы переносные употребления проприативов, связанные с проявлением ассоциативного объема слов, формированием образных и концептуальных смыслов в контексте. Особую значимость здесь имеют случаи обозначения одного и того же географического объекта, наименования которого в процессе функционирования на разных синхронных срезах сохраняют свои функционально-стилистические свойства, выступая в качестве элементов вершинной части сегмента с инвариантным семантическим признаком ‘пространство, предназначенное для проживания людей’. Это топонимы Сталинград и Волгоград. Реже образное и символическое употребление онимов наблюдается в совокупности фактов, относимых к элементам его срединной части. Анализ языкового материала показывает, что при функционировании онима Сталинград отмечено появление коннотаций, наличие которых свидетельствует о реализации образных значений Сталинград – военная сила, Сталинград – оборонительный рубеж, Сталинград – герой и др., например: Сила и мощь героев Сталинграда никогда не будет забыта нашим советским народом (СП, 13.05.1945), Отсюда, с этого берега Волги, от стен доблестного Сталинграда началась дорога блестящих побед и славы советского оружия, мужества и героизма советского народа (СП, 10.05.1945), Биография Сталинграда – это одна из замечательных глав летописи борьбы советского народа, его беспримерного мужества, бесстрашия и легендарной стойкости в смертельных схватках с врагом (СП, 09.04.1950). Выделяются символические значения Сталинград – мужество, Сталинград – отвага и др., например: Сталинград стал символом мужества и отваги, стойкости и упорства, презрения к смерти и возвышенной любви к жизни (СП, 25.03.1945). Формирование концептуальных смыслов связано с использованием топонима в тексте газеты «Сталинградская правда» в контекстуальных значениях Сталинград – великая победа, Сталинград – начало победы, Сталинград – военная слава, Сталинград – победитель и др., например: Сталинград – колыбель победы, от стен нашего города начался славный марш великого наступления Красной Армии на Запад (СП, 10.05.1945), Сталинград – город славы русского оружия
(СП, 22.04.1944), Сталинград одержал победу в великом сражении за город, за Советскую Родину (СП, 12.05.1944). В приведенных и других контекстах при употреблении онима Сталинград речь идет не столько о населенном пункте, пространстве для проживания людей, сколько о роли обозначаемого им географического объекта в Великой Отечественной войне и истории человечества.
Факты, соотносимые с синхронными срезами периода конца XIX–начала XXI в. в развитии русского языка, начиная с 1998–2009 гг., дают возможность говорить об обогащении семантико-прагматического потенциала топонима Волгоград , появлению в публикациях таких выражений, как Волгоград распорядился (ВП, 15.07.2000), по распоряжению Волгограда (ВП, 09.05.2002), Волгоград представил (ВП, 17.12.2006) и др.
Возникают в газетных текстах символические значения, что связано с использованием тропов и изобразительно-выразительных фигур, например, перечисления и сопоставления: Мы всегда помним, что, как бы ни назывался наш город – Царицын , Сталинград , Волгоград , – это священное место, это память о героической истории наших побед (ВП, 11.09.2007), тождества: Наш Волгоград – это праздник, это толпы людей на улицах, это молодость (ВП, 11.09.2005), градации, в которой проприатив может играть роль компонента, признаки которого на основе актуализации потенциальных сем получают смысловое усиление в рамках целостного контекста: Без Волгограда , без наших бескрайних степей, без ковыльных просторов, без нашего постоянного ветра я и не представляю себе жизни (ВП, 14.09.2004).
В массиве употреблений топонима Волгоград, которые квалифицируются на функционально-семантическом уровне как элементы вершинной части сегментной структуры с инвариантным семантическим признаком ‘пространство, предназначенное для проживания людей’, зафиксированы образные контексты, свидетельствующие о значительном ассоциативном объеме лексической единицы с категориально-лексической семой ‘географический объект для проживания людей’, например: Наш Волгоград – это любовь, это восхищение, это радость, это надежда на лучшее будущее (ВП, 11.09.2005). У имени собственного Волгоград отмечено также формирование концептуального оценочного смысла герой, реализация которого становится возможной на основе контекстуального использования онима в сочетаниях с эпитетами: Героический Волгоград стоит на берегах Волги (ВП, 11.07.2005), Своим самоотверженным трудом жители славного Волгограда пишут историю нашего города (ВП, 15.09.2007), при выражении фигуры тождества: Волгоград – это гордость страны, это всегда победа, это постоянное чувство любви к своей Родине (ВП, 08.05.2005). В приведенных и других предложениях речь идет о населенном пункте не как пространстве, предназначенном для проживания людей, а как о символе победного сражения советских солдат и возрождения жизни из пепла.
Приведенные контексты свидетельствуют о расширении способности топонимической лексики выступать экспрессивным, социально-оценочным средством газетной публицистики.
Таким образом, сопоставление функциональной значимости топонимических единиц на основе анализа признаков, выявленных с помощью топоэффектора, дает основания рассматривать ономастическую лексику, зафиксированную в разновременных газетных текстах, как полевое единство, в котором разграничиваются ядерные и периферийные конституен-ты. В плане содержания данные средства объединяются на основе семантического признака ‘географическое наименование пространства (его части, участка) как единичного объекта’, в плане выражения ядро образуют вершинные части сегментов, ближнюю периферию составляют элементы их срединных частей, дальнюю периферию – проприативы, относимые к окраинным частям сегментов. Динамические процессы в региональной топонимике, выявляемые при сопоставлении полевых структур, моделируемых на разных синхронных срезах периода конца XIX – начала XXI в. в развитии русского литературного языка, формируются под влиянием функционально-семантических изменений и включают разнонаправленность действия тенденций к аналитизму и синтетизму в структуре обозначения географического объекта, расширение или сужение семантичес- кого объема (сочетаемости) лексем, появление / утрату каких-либо значений проприати-вов, элиминирование денотата топонима и пополнение разряда нарицательных имен существительных, перераспределение активности прямых и переносных употреблений онима и его функциональной значимости в разновременных газетных текстах под воздействием экст-ралингвистических факторов, усиление роли регионального топонимикона как стилистического ресурса и топонимической лексики как социально-оценочного средства газетной публицистики.
Список литературы Динамические процессы в региональном топонимиконе
- Гарвалик, М. К вопросу о современной ономастической терминологии/М. Гарвалик//Вопросы ономастики. -2007. -№ 4. -С. 5-12.
- Грановская, Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и ХХ вв.: очерки/Л. М. Грановская. -М.: Элпис, 2005. -448 с.
- Ильин, Д. Ю. Топонимическая лексика в текстах региональных газет конца XIX -начала XXI века: динамические процессы/Д. Ю. Ильин. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. -408 с.
- Ильин, Д. Ю. Топоэффектор как катализатор изменений в функциональной семантике топонимических единиц/Д. Ю. Ильин//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2012. -№ 1 (15). -С. 61-67.
- Картавенко, В. С. О развитии ономастической терминологии/В. С. Картавенко//Филологические науки. -2009. -№ 2. -С. 72-80.
- Климкова, Л. А. Региональная топонимия в концептуальном аспекте: пространство/Л. А. Климкова//Филологические науки. -2006. -№ 6. -С. 77-86.
- Костомаров, В. Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики/В. Г. Костомаров. -М.: Гардарики, 2005. -287 с.
- Крысин, Л. П. Русская литературная норма и современная речевая практика/Л. П. Крысин//Русский язык в научном освещении. -2007. -№ 2 (14). -С. 5-17.
- Кудряшова, Р. И. Донские казачьи говоры Волгоградской области/Р. И. Кудряшова. -Волгоград: Перемена, 2010. -120 с.
- Лейчик, В. М. Интеллектуализация и демократизация -противоположные тенденции в развитии современного русского языка/В. М. Лейчик//Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы. -М.: ИРЯ РАН, 2003. -С. 420-423.
- Литневская, Е. И. Вопрос о «порче языка» в зеркале обыденного и профессионального сознания/Е. И. Литневская//Вестник ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова. Серия «Лингвистика». -2011. -№ 4. -С. 23-29.
- Матвеев, А. К. Ономатология/А. К. Матвеев. -М.: Наука, 2006. -292 с.
- Милославский, И. Г. Расширение когнитивного пространства как главная проблема русского литературного языка XXI в./И. Г. Милославский//Вестник Московского государственного университета. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2008. -№ 3. -С. 75-89.
- Мустайоки, А. Разновидности русского языка: анализ и классификация/А. Мустайоки//Вопросы языкознания. -2013. -№ 5. -С. 3-27.
- Прохоров, Ю. Е. Социокультурные аспекты изучения русского языка: новые условия, новые потребности, новые модели/Ю. Е. Прохоров//Русский язык за рубежом. -2012. -№ 3. -С. 4-10.
- Русский язык конца ХХ столетия (1985 -1995). -2-е изд. -М.: Языки русской культуры, 2000. -480 с.
- Сиротинина, О. Б. Хорошая речь: сдвиги в представлении об ее эталоне/О. Б. Сиротинина//Русский язык сегодня: сб. статей. -Вып. 2.-М.: Азбуковник, 2003. -С. 548-555.
- Современный русский язык: Активные процессы на рубеже ХХ-XXI веков/Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. -М.: Языки славянских культур, 2008. -712 с.
- Современный русский язык: Система -норма -узус/Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. -М.: Языки славянских культур, 2010. -480 с.
- Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация/Рос. академия наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. -М.: Языки славянской культуры, 2003. -568 с.
- Стернин, И. А. Общественные процессы и развитие современного русского языка: Очерк изменений в русском языке конца ХХ века/И. А. Стернин. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 1997. -65 с.
- Суперанская, А. В. Общая теория имени собственного/А. В. Суперанская. -Изд. 2-е, испр. -М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -368 с.
- Супрун, В. И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал/В. И. Супрун. -Волгоград: Перемена, 2000. -172 с.
- Тупикова, Н. А. Речь носителей русского и украинского языков в пунктах смешанного проживания населения/Н. А. Тупикова, Д. Ю. Ильин, Н. А. Стародубцева; под общ. ред. проф. Н. А. Тупиковой. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. -68 с.
- Тупикова, Н. А. Язык региона как объект научного исследования: задачи и перспективы/Н. А. Тупикова//Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков: сборник науч. тр. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -С. 185-197.
- Шмелев, А. Д. Русский язык начала XXI века: действительные и мнимые изменения/А. Д. Шмелев//Русский язык за рубежом. -2011. -№ 4. -С. 117-124.
- Юдина, Н. В. Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс?: монография. -М.: Гнозис, 2010. -293 с.
- Якобсон, Р. О. Лингвистика в ее отношении к другим наукам/Р. О. Якобсон//Избранные работы. -М.: Прогресс, 1985. -С. 369-421.