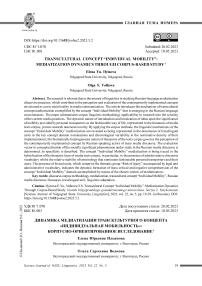Динамика медиатизации транскультурного концепта «индивидуальная мобильность»: корпусно-ориентированное исследование
Автор: Ильинова Е.Ю., Волкова О.С.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность проведенного исследования обусловлена интересом лингвистики к изучению русскоязычных дискурсивных практик медиатизации, формирующих и направляющих восприятие и оценку транскультурных концептов как новой социальной реальности в пространстве медийной коммуникации. Статья посвящена описанию механизма медиатизации транскультурного концепта «Индивидуальная мобильность», формирующегося в русском языковом сознании. В фокусе внимания находится обоснование ценности использования методологии корпусной лингвистики при изучении актуальной медийной практики. Новизна результатов работы состоит в аргументации положения о динамичном характере внедрения и адаптации представлений о значимости индивидуальной мобильности как популярном стиле жизни, отраженном в тезаурусе корпуса медийных текстов. Методами корпусной лингвистики установлены языковые механизмы медиатизации изучаемого концепта, проявляющиеся в доминировании транслингвальных единиц при номинации ключевых понятий концептуального домена, хронологическом варьировании номинативной плотности их реализации, в тематически неоднородном наполнении тезауруса корпуса текстов, управляющем восприятием новых концептов русскоязычными акторами массмедийного дискурса. Определена специфика ценностного вектора концептуализации рассматриваемого социально значимого феномена, задающего ориентиры и специфику его воздействия в русскоязычном медийном дискурсе. Показано, что медиатизация концепта «Индивидуальная мобильность» реализуется в гибридизации тематического состава лексики в тезаурусе корпуса медийных текстов, в частности при относительной стабильности терминологического пласта лексики, номинирующего модные персональные средства передвижения и их пользователей, выделена лексика, посредством которой формируется массовая негативная оценка по отношению к индивидуальной мобильности с помощью избранных векторов медиатизации.
Дискурсивно-корпусная методология, медиатизация, транскультурный концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/149145088
IDR: 149145088 | УДК: 81’1:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.5.2
Текст научной статьи Динамика медиатизации транскультурного концепта «индивидуальная мобильность»: корпусно-ориентированное исследование
DOI:
Медийный дискурс, обладающий огромным потенциалом воздействия, является социально значимым виртуальным пространством, в котором при участии языка обретают форму, трансформируются и модифицируются лингвокультурные концепты, или смысловые образования, определяющие понятийную структуру картины мира, оценки и ориентиры поведения членов социума (о термине см.: [Карасик, 2002; 2010; 2022]). Процесс формирования актуальности отдельного социально значимого явления в общем информативном пространстве сегодня именуется медиатизацией [Silverstone, 2006; Hodkinson, 2011; Ивченков, 2018; 2019; Кириллова, 2005; Лущин-ская, 2021; Якоба, 2019; и др.].
Термин «медиатизация» был предложен в ХХ в. Дж.Б. Томпсоном для указания на особую роль медиа как институционально организованной структуры, транслирующей не столько информацию, сколько образцы и модели восприятия информации или поведения, оказывающие влияние на ценностные ориентации и общезначимые смыслы. Созданию коммуникативной теории медиатизации способствовал ряд публикаций зарубежных специалистов (см., например: [Corner, 2018; Couldry, Hepp, 2013; Deacon, Stanyer, 2014; Flew, 2017; Hodkinson, 2011; Silverstone, 2006]), в которых активно обсуждались степень участия института медиа в конструировании информационного потока и потенциал его влияния на практики социализации и идеологию (см., например: [Hepp, Hjarvard, Lundby, 2015]). Механизмы медиатизации в условиях цифровой медиакоммуникации рассматриваются в специализированных журналах (см., например: [Finnemann, 2011; Nőlleke, Scheu, Birkner, 2021; и др.]).
Сообщество российских философов, культурологов, политологов, лингвистов и журналистов активно включилось в обсуждение содержания понятия «медиатизация». Результаты анализа многочисленных публикаций указывают на признание медиатизации двусторонним процессом, в границах которого профессионалы медиа и специалисты разных сфер социаль- но-общественной практики совместно занимаются построением информационного потока, активно влияющего на модели восприятия, модели поведения отдельных групп и эмоциональное состояние общества в целом [Гуреева, 2016; Гуреева, Кузнецова, 2021; Мамонова, 2021]. Медиатизацию определяют как процесс формирующего влияния медиа на современное общество [Примаков, 2019], как социокультурный тренд, характеризующий современное информационно-телекоммуникационное пространство. В более узком смысле ее рассматривают как процесс создания, распространения и совершенствования средств сбора, хранения и распространения информации [Лебедева и др., 2018; Викку, Лебедева, 2022; Шмелева, 2015], поскольку все современные институциональные медиасредства (ТВ, радио, пресса, Интернет) вовлечены в общий поток символов социальной жизни [Викку, Лебедева, 2022]. В отечественной коммуникативно-дискурсивной парадигме представление о медиатизации, в первую очередь, обсуждается в журналистике, где ее описывают как «процесс качественной трансформации массовой коммуникации, спровоцированный влиянием СМИ, которые из социального института, отражающего в информационном потоке реальность, становятся инструментом серьезного влияния на жизнь социума в целом и на отдельного индивида» [Вик-ку, Лебедева, 2022, с. 200]. Характеризуя функциональную значимость процесса медиатизации, исследователи отмечают, что сегодня массовые каналы коммуникации управляют информацией, диктуя миру, каким ему предстать в фокусе их освещения, так как поток информации и предлагаемый анализ событий формируются с учетом требуемого ракурса их отражения в зеркале средств массовой информации [Донцов, Асланов, 2022]. Последствия тренда медиатизации видятся в его влиянии на отношение людей к окружающему их миру, социокультурному пространству их бытия в целом и на отдельные аспекты в жизни отдельного человека в частности.
В теории медийной коммуникации толкование этого метатермина находится на стадии уточнения и конкретизации, что связано со сложной и многопрофильной природой номинируемого им процесса (см., например: [Артамонова, Володенков, 2021; Викку, Лебеде- ва, 2022; Гуреева, Кузнецова, 2021; Мамонова, 2021; Федотова, 2022; и др.]). Как деятельность по выбору форм продвижения информации о текущих событиях, медиатизация – это процесс воздействия на мышление индивидов, «выражающийся в формировании картины мира посредством специфических медийных когнитипов» [Рогозина, 2003, с. 121]. Медиа, по мнению, Н.Б. Кирилловой, это «целая среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» [Кириллова, 2005, с. 12], иными словами, сама информация, форма ее подачи оказывает социокультурное влияние на сознание общества. Эксперты подчеркивают, что процесс медиатизации создает особую медиасоциальную реальность [Примаков, 2019, с. 236], которая, используя медиаресурсы, конструирует специфическое социально-дискурсивное пространство. В нем в ходе социальных интеракций определяются и реализуются нормы и ценности общества в целом или модели поведения его отдельных групп, складываются общие образы социокультурных отношений и ценностей или персональные образы человека.
В целях эффективной организации лингвистического изучения практики медиатизации исследователи предлагают учитывать прагматические цели медиатизации, в частности, А.Н. Гуреева и В.С. Кузнецова указывают на прикладную значимость двух вариантов медийной практики – институционального и социально-конструктивистского, а также предлагают учитывать уровни и формы медиатизации [Гуреева, Кузнецова, 2021, с. 195–197]. Различия определяются в зависимости от сферы медийной практики. Так, институциональной традиции придерживаются преимущественно традиционные массме-диа, призванные формировать общий информационный поток для всего общества; социально-конструктивистская практика применяется для создания мнений и оценок в повседневных коммуникативных практиках, связанных с цифровыми медиа и личным сетевым общением. При этом специалисты отмечают, что в реальной медийной коммуникации выделенные варианты реализуются параллельно и в условиях конкретного контекста конструируют заранее заданные черты и признаки восприятия мира, а изучение этих практик позволяет отслеживать изменения в формах медиатизации фактов и событий, фиксировать формирование и изменение ценностного отношения к ним.
Приведенный краткий обзор точек зрения объясняет актуальность изучения современной информационно-коммуникативной среды в аспекте анализа дискурсивных практик медиатизации, влияющих на восприятие информации об актуальных событиях и явлениях, на мнение об институтах, отдельных личностях и их ценности для современного общества. Процесс медиатизации характеризуется такими признаками, как инкорпорирование социальных объектов (образов общества в целом, его отдельных представителей, групп, явлений и событий) в медиапространство; формирование информационного потока, в котором факты и события переводятся в медианарратив, способный мистифицировать или эмотивно-оценочно подавать информацию с целью реализации неких социальных концепций или идей. При медиатизации информации рождаются образы и истории, способные не столько информировать, сколько оказывать влияние на характер восприятия информации и ее оценку.
Поддерживая представление о достаточно высокой степени манипулятивности практик медиатизации, мы предлагаем уточнение к фактору функционально-прагматической значимости. Полагаем, что медиатизация – это не только коммерчески или идеологически оправдываемый прием подачи информации (так называемая манипуляция общественным мнением, мистификация), медиатизация способна выполнять и социально полезную функцию, например информировать общество о появлении новых предметов, трендов модного образа жизни, формировать их ценностные образы, сообщая о проблемах, связанных с ними, о тех дискуссиях, которые активировали интерес к ним, о мнениях и действиях, которые могут помочь обществу в их разумном применении и устранении социальных разногласий. Такой тип медиатизации нацелен на институционализацию нового объекта (явления, понятия, ситуации), имеющего социальную значимость для отдельных групп или общества в целом.
Представленная позиция сформировалась в результате корпусно-ориентированно- го исследования особенностей дискурсивной медиатизации в русскоговорящем социуме модного сегодня концепта «Индивидуальная мобильность» (далее – «ИМ»), который в данный момент проходит стадию институционализации, то есть концептуального внедрения в общую картину мира (в глобальном и локальном исполнении как представление о форме поведения, популярном тренде образа жизни в городе) и стадии языковой и дискурсивно-текстовой адаптации в русскоязычном дискурсивном пространстве.
Отметим, что концептуальное образование «ИМ» следует отнести к событийному концепту транскультурного типа, поскольку его появление в российском социуме объясняется интересом к новым техническим средствам передвижения и активной медийной популяризацией идеи индивидуальной транспортной мобильности как поведенческого тренда жителя большого города в ХХI веке. В термине «транскультурность» фиксируется особенность внедрения концептуальности индивидуальной мобильности – благодаря глобализованному маркетингу и параллельной медиатизации поведенческого тренда, технические средства личной мобильности, созданные отдельными производителями, получили одномоментное распространение в разных точках нашей планеты. Медиатизированные информацией о популярности и практичности, эти относительно новые технические средства быстро попадают к пользователям, объявляются символом модного образа жизни, который динамично внедряется в модели социального поведения жителей столиц и крупных городов. Именно ме-диатизированная адаптация данного транскультурного концепта формирует событийноситуативное представление об индивидуальной мобильности, уточняя векторы социально одобряемого и неодобряемого поведения и его ценность. В частности, оценка транскультурного концепта «ИМ» жителями урбанизированного города варьируется от некритичного восторженного принятия до резкого осуждения, что отражается в медийной информационной среде, делая мобильность актуальной темой лингвистического описания.
В данной работе концепт «ИМ» рассматривается как социально значимое явление, которое активно инкорпорируется в общую социальную картину бытия посредством техник медиатизации, информирующих не столько о технических характеристиках средств индивидуальной мобильности (далее – СИМ), их функциональных возможностях, социальной полезности, сколько об их опасности и травматичности, неоднозначном отношении к ним жителей города и представителей администрации. Целью проведенного исследования стало выявление приемов медиатизации популярного транскультурного концепта «ИМ» через составление тезауруса корпуса медийных сообщений о СИМ на русском языке, отражающего в особенностях языковой фиксации специфику информирования и формирования оценочного отношения к транскультурному концепту «ИМ» в медийном контенте на русском языке.
Материал и методы
Актуальность обращения к корпуснодискурсивному анализу медиатизации на примере транскультурного концепта «Индивидуальная мобильность» обусловлена рядом факторов.
Во-первых, сегодня этот процесс неизбежно нацелен на формирование ценностей современного глобализированного сообщества людей, которое часто называют «глобальной деревней» (от англ. global village). Это понятие было предложено миру в начале 60-х гг. ХХ в. канадским мыслителем Маршалом МакЛуаном [McLuhan, 1962]. В своей концепции социальной теории медийных технологий он подчеркивал значительный рост объединяющего влияния печатных средств массовой информации на потребителей – людей, проживающих в разных точках планеты, имеющих разную социальную и этническую принадлежность, но общие модели массового потребления. Он полагал, что ежедневное медийное информирование по унифицированным моделям влияет на мышление человека, делая его типизированным и общим. МакЛуан утверждал, что унификация средств информирования способна изменить социальную типологию (имидж) человека. Томас Фридман внес уточнение: глобализация связывает жизнь человека с коммерцией; в обширных границах общества массового потребления она ускоряет и унифицирует рыночные процессы, снижая значимость индивидуальности [Friedman, 2005]. Соответственно, медиатизация способствует распространению маркетологической информации, влияющей на унификацию современного образа жизни. С гуманитарной точки зрения некоторые современные философы оценивают процесс глобализации в современном мире как мечту о бесконфликтном сосуществовании людей, имеющих равный доступ ко всем достижениям цивилизации, нормальный уровень благосостояния, равные возможности. Отметим, что эта мечта пока недостижима, но у представителей разных сообществ наблюдается потребность разумно оценивать положительные и отрицательные последствия медиатизации (см., например: [Nőlleke, Scheu, Birkner, 2021]). Лингвистический анализ механизмов медиатизации позволяет установить систему единиц языка, указывающих на разные приемы представления социально значимых концептов.
Во-вторых, избранный для изучения концепт «ИМ» является актуальным продуктом медийной коммуникации. Транскультурный по содержанию, он в настоящее время формируется в русскоязычном дискурсивном пространстве, реализуясь в разных формах, в частности рекламно-коммерческой, юридической, административной, обретает основные концептуальные признаки, получая обобщенное отражение и в медийном дискурсе, предназначенном для массового читателя.
В-третьих, благодаря сиюминутности внедрения темы «Индивидуальная мобильность» в ситуативный контекст русскоговоря-щего социума, мы получили уникальную возможность проводить ежедневный мониторинг новостных сообщений в официальных СМИ о СИМ (как символах индивидуальной мобильности в городе) и их обсуждение в сетевых ресурсах, собирать и регулярно пополнять текстовый контент, проводить тематический (семантический) и синтагматический анализ единиц языка, номинирующих СИМ, их пользователей, процессуальные и иные признаки ситуаций, ассоциируемых с индивидуальной транспортной мобильностью. С опорой на параметры хронологического датирования и медийной фиксации сообщений о СИМ в период с 2018 по 2023 г. был проведен лингвистичес- кий анализ таких сообщений, позволивший реконструировать тематический тезаурус собранного корпуса, выявить специфику языкового введения концепта «ИМ» как вербального отражения механизма его медиатизации.
Теоретическую базу исследования определяет опора на положения конструктивистской теории дискурса, в границах которой он представлен как набор текстов и речевых конструкций, составляющих социальный контекст отдельного явления и формирующий идеологию или образ мышления [Laclau, 1995]; на положения общей аксиологии дискурса и прагматики медиатекста [Карасик, 2002; 2022; Кириллова, 2005; Федотова, 2022]; на лингвистический взгляд на дискурс как содержательно-тематическую общность текстов, отражающих в языковых единицах формы социальной практики [Чернявская, 2017; Кочетова, Ильинова, 2023]; на возможности объективизации результатов дискурсивного анализа с помощью инструментов корпусного анализа, основанного на методике извлечения ключевых слов [Кочетова, Кононова, 2019; и др.]; на методику категориально-семантической реконструкции дискурсивного тезауруса [Ильинова, 2016].
Применение корпусной методологии обеспечивает точность и объективность полученных результатов [Чернявская, 2017; Кочетова, Кононова, 2019]. С ее помощью дополняется традиционный дискурсивно-интерпретативный подход к анализу коммуникативной практики, поскольку, верифицируя статистическими инструментами научные гипотезы, корпусные методы создают возможности для преодоления субъективизма каче- ственных методов, основанных на интуиции ученого.
В данном исследовании с помощью инструментов корпусного анализа [Gabrielatos, 2018] были построены конкордансы и проведен контекстуальный поиск, позволивший с опорой на полученные статистические данные выделить ключевые единицы, образующие семантическое ядро и тематическое зоны тезауруса собранного корпуса текстов. Применялись методы систематизации, ти-пологизации средств лексической репрезентации компонентов изучаемой концептосфе-ры, проводилось моделирование семантических пластов лексики, реализуемых в дискурсивных практиках, с последующим выявлением векторов медиатизации социально актуального концепта «Индивидуальная мобильность».
Для проведения исследования использовался специализированный, репрезентирующий средства индивидуальной мобильности тематический корпус, включающий медийные тексты, предназначенные для широкой аудитории (табл. 1). Тексты отбирались из медиаконтента, размещенного на официальных информационно-аналитических порталах России 2.
Корпус медийных сообщений о средствах индивидуальной мобильности на медийном портале ( за период 2018–2023 гг. включает 311 документов. Объем корпуса составляет 71 969 слов при среднем количестве слов в тексте, равном 231 слову. Как следует из таблицы 1, самым активным годом появления новостных сообщений о СИМ является 2021 г. (121 текст), с последующим снижени-
Таблица 1. Структура и характеристики тематического корпуса медийных сообщений о средствах индивидуальной мобильности
Table 1. The structure and characteristics of the thematic corpora of media texts about individual mobility devices
|
Год |
Количество текстов |
Количество слов |
Среднее количество слов в тексте |
Количество словоформ |
Коэффициент лексического разнообразия |
|
2018 |
4 |
1 497 |
374 |
726 |
0.5070 |
|
2019 |
7 |
3 335 |
476 |
1 425 |
0.5560 |
|
2020 |
16 |
3 313 |
207 |
1 341 |
0.4993 |
|
2021 |
121 |
27 588 |
228 |
13 409 |
0.5156 |
|
2022 |
86 |
18 834 |
219 |
9 275 |
0.4925 |
|
2023 |
77 |
17 402 |
226 |
8 772 |
0.5041 |
|
Всего |
311 |
71 969 |
231 |
5 825 |
0.5124 |
ем до 86 в 2022 г. и предполагаемым увеличением количества сообщений в 2023 г. (за половину текущего 2023 г. зафиксировано 77 текстов). По коэффициенту лексического разнообразия следует отметить максимальную величину в 2019 г. (0.5560 в момент активизации обсуждения темы СИМ) и 2021 г. (0.5156, год, когда наблюдается увеличение разнообразия обсуждаемых проблем, вызванных внедрением СИМ в жизнь большого города).
Собранный корпус подвергался компьютерной обработке при помощи встроенного функционала сервиса CQPweb (Corpus query processor) 3, предлагающего инструмент загрузки собственного корпуса. Использовались: функция определения ключевых слов корпуса; функция построения списка слов; функция, позволяющая осуществлять поисковые запросы; функция построения коллокаций. Список ключевых слов и словосочетаний формировался вокруг таких стержневых единиц, как гипероним средство индивидуальной мобильности и его гипонимы-эквонимы ( электро ) само-кат , ( электро ) велосипед , моноколесо , сиг-вей , ( электро ) скутер , ( электро ) скейтборд , гироборд , гиробайк , кикборд и др. Далее с опорой на функцию выявления коллокаций был установлен список других единиц, тематически связанных с проблемами использования СИМ в большом городе.
Предложенная методика дискурсивнокорпусного анализа медиатизации концепта, впервые выполненная на материале собственной коллекции медийных текстов, позволила выявить векторы институционализации транскультурного концепта «ИМ» при его внедрении и адаптации к общим нормам жизни российского общества, неоднозначность оценочного восприятия разными представителями русскоязычного дискурсивного сообщества этого ставшего социально значимым феноменом популярного поведения.
Результаты и обсуждение
Описание полученных данных и выявленных тенденций предварим вводным объяснением событийно-ситуативной специфики концепта «Индивидуальная мобильность» в англоязычной и русскоязычной социальных картинах мира.
Понятийная основа концепта «ИМ» в англоязычной картине мира идентифицируется двумя сферами. Во-первых, это концептуальная зона PERSONAL MOBILITY AIDS (PMA), она отражает общую гуманистическую идею о равных возможностях человека в аспекте транспортировки, инклюзии людей с особенностями и ограниченными физическими возможностями ( mobility impairment ) в общее социальное пространство:
-
(1) Personal Mobility Aids (PMAs) refer to devices such as wheelchairs, motorised wheelchairs or mobility scooters which are designed to carry an individual who is unable to walk or has walking difficulties;
-
(2) Mobility scooters, also known as personal mobility aids (PMAs), are designed for the elderly or people with difficulties walking or standing for a long period of time 4.
Во-вторых, под влиянием активного развития инженерной мысли и массового производства средств индивидуального перемещения, способствующих улучшению транспортных условий в большом городе, сформировалась вторая понятийная зона PERSONAL TRANSPORTATION DEVICE (PTD), представленная в английском языке гиперонимом personal transporter в окружении эквонимов – номинаций вариантов таких средств ( segway , scooter , skateboard и др.). Поскольку именно средство индивидуальной мобильности символизирует транспортную независимость, то одной из значимых характеристик концепта «ИМ» является динамическая процессуаль-ность, предполагающая наличие активного агента. Он использует СИМ в качестве инструмента для личного перемещения на большие расстояния, и, соответственно, в концептуальный домен включаются количественные и качественные признаки движения, что указывает на ситуативный характер центрального конституента «СИМ», с которым тесно связываются различные позитивные и негативные события, ассоциируемые с динамикой процесса использования СИМ в городе и его оценкой.
В русскоговорящем социуме активно приживается и проходит дискурсивную адаптацию второй конституент изучаемой концеп-тосферы – представление о средстве личной транспортной мобильности горожанина как символе популярного стиля жизни. Формирование общего представления о ситуативнос-ти и событийности концепта «ИМ», осознание его ценности и социальной значимости для русскоязычного сообщества в большой степени проходит с помощью приемов медиатизации СИМ, которые получают языковую объективацию в тематическом составе тезауруса корпуса медийных текстов. Его лексические пласты отражают этапы внедрения и неоднозначную адаптацию конституента СИМ к моделям поведения в современном городе. Говоря о внедрении, мы выражаем следующую гипотезу: вхождение нового концепта в массовое сознание предполагает формирование системы языковых знаков, номинирующих концепт, его признаки, свойства и характеристики, то есть создание тематического ядра будущего тезауруса отдельного сегмента дискурсивной практики, в ходе которой представители определенного сообщества обсуждают (в устной и письменной форме) возникновение нового явления, его использование, последствия, вызванные его появлением. На этом этапе участники дискуссий выбирают дополнительные языковые знаки для передачи своих мыслей и оценок, чему активно способствуют медийные практики информирования о новом явлении и его институционализации как позитивно или негативно влияющих на практику бытия. Представляется, что данные о составе тезауруса корпуса текстов, полученные с опорой на корпусные методы извлечения информации, отражают тематическое своеобразие отдельного сегмента дискурсивной практики, создают объективную основу для интерпретативного анализа содержания текстов, вводящих концепт в когнитивно-дискурсивное сознание общества.
Основным приемом выявления понятийных и ценностных признаков компонента «СИМ» как репрезентанта концепта «ИМ» стало моделирование тезауруса на основе собственной коллекции текстов, что предполагало сбор данных о тематико-семантических особенностях их лексического состава с опорой на функции построения списка слов корпуса и выделения ключевых слов, на понятийный анализ высокочастотных единиц, составляющих номинативное ядро и разноуда- ленные по степени ассоциативных связей группировки слов в нем. Анализ номинативной плотности ключевых слов показал, что исследованный корпус характеризуется понятийной близостью лексем, называющих транспортные средства и лица, их использующие (тематические группы «СИМ» и «Лица, использующие СИМ»), к ним примыкают объединения единиц, обозначающих транспортную активность, события, связанные с проблемами при использования СИМ в городе (тематические группы «Активное движение», «Травмоо-пасность», «Административное регулирование»). Такой состав тезауруса указывает на разные векторы медиатизации этого нового социально-популярного тренда на российских новостных порталах.
Значительная часть слов, образующих номинативное ядро тезауруса в исследованном русскоязычном корпусе медийных текстов, является полностью или частично заимствованными транслингвальными единицами, номинирующими разные виды СИМ (о транслингвальных единицах см.: [Кочетова, Ильинова, 2020; Волкова, 2021]). Этимологический анализ этих лексических единиц подтверждает, что они пришли в русскоязычную среду вместе с заимствованными концептами СИМ и сегодня входят в терминологическое ядро тезауруса изучаемого корпуса текстов (см. табл. 2).
Представленные в таблице 2 русскоязычные аналоги заимствованных терминов, обозначающих СИМ, отражают быстрое прохождение всех основных этапов транслингвального перехода в систему русской лексики. Начальным этапом считается фонетическая и графическая адаптация материальной формы заимствованной единицы к нормам русского языка, что предполагает изменение звукового облика слов в соответствии с фонетическими законами принимающего языка и его письменную фиксацию с выбором одного из вариантов написания (транскрибирования, транслитерации) или калькирования. Изучение приемов выбора графической формы заимствованных единиц, номинирующих СИМ, указывает на доминирование транслитерации, которая в отдельных случаях дополняется транскрибированием, что объясняется фонологическими различиями между английским и русским языками. Приведем примеры.
Таблица 2. Английские номинации средств индивидуальной мобильности и их русскоязычные аналоги
Table 2. English nominations of individual mobility devices and their Russian equivalents
|
Аутентичная англоязычная номинация |
Закрепившиеся русскоязычные аналоги |
|
Personal transporter, personal mobility device, portable personal vehicle, electric rideable device |
Средство индивидуальной мобильности, средство персональной мобильности |
|
Motorized scooter |
Электроскутер |
|
Electric standing scooter |
Электросамокат |
|
Electric skateboard |
Электроскейтборд |
|
Self-balancing scooter |
Электросамокат |
|
Gyroboard |
Гироборд |
|
Gyroscooter |
Гироскутер |
|
Gyrocycle |
Гироцикл |
|
Gyrobike |
Гиробайк |
|
Kikboard |
Кикборд |
|
Segway |
Сигвей |
|
Electric unicycle |
Моноколесо |
|
Balance board |
Балансборд |
|
Fatbike |
Фэтбайк |
По нормам русского языка перед гласным [э] должен произноситься мягкий согласный: [ хов’эрборт ] = ховерборд , [ c’игв’эй ] = сигвей , но чаще встречаются и варианты с твердым согласным – [ c’игвэй ], в письменной форме принимается нормативный вариант русского написания сиг вей . Наблюдаются варианты значительной редукции произнесения английской гласной в ударном слоге. Так, при адаптации сложносоставных терминов с префиксоидной корневой морфемой gyro- происходит фонетическая ассимиляция: если в английском варианте данная префиксоидная корневая морфема произносится как Vd5aiarau\ , то в русском транслитерированном (а не транскрибированном варианте) происходит подчинение звуковой формы законам русского языка и слово уже звучит [ гиро ]. Традиционно дифтонг оа с нейтральным r произносится в английском языке как ассимилированный вариант [э.], но английская морфема board как одна из корневых морфем в сложных словах (например, kikboard , gyroboard и др.) в русском аналоге передается через частичную имитацию и транскрибирование \bD:d\ – [ борд ], ср.: skateboard , kickboard – скейт борд , кик борд .
Особого внимания заслуживают результаты графического оформления заимствованных словоформ в текстах. В первую очередь это написание заимствованного англоязычно- го названия кириллицей (см. табл. 2), однако в медийной практике отмечается использование несвойственного для русского языка приема графического включения в русский текст латинизированной формы слова с элементами капитализации (написание с заглавных букв) каждого из компонентов сложносоставного слова, например при обозначении бренда или модели: GyroCycle должен поступить в продажу в 2017 году; Как сообщается на сайте компании, GyroCycle оборудован маховиками, которые создают гироскопический эффект и удерживают его от падения 5.
Семантическая адаптация транслингвальных форм предполагает уточнение объема семантического значения слов в новой языковой среде. Иноязычное слово, занимая свое место в семантическом поле языка-реципиента (русского в данном случае), устанавливает системные отношения с другими языковыми единицами, вступая в гиперо-гипоними-ческие иерархические отношения. В современной русскоязычной практике система номинаций СИМ прошла стадию понятийной систематизации. Эти единицы образовали тематическую подгруппу, основанную на гиперо-гипонимических отношениях. Центральными являются калькированные с английского языка словосочетания средство индивидуальной мобильности ( personal mobility device )
и индивидуальное транспортное средство ( personal transporter ), их дополняют терминологические словосочетания вид транспорта , аппарат , изделие , модель , агрегат , ( электрическое ) устройство , средство передвижения , а также транскрибированный эквивалент от английского названия девайс. Логическими отношениями с ними связаны эквонимы, уточняющие разновидности транспортных средств личной мобильности. Наряду с привычными словами велосипед , самокат , электросамокат в списке значится транслингвальная номинация СИМ, прошедшая процедуру частичного калькирования, – моноколесо (от unicycle ), остальные единицы – это заимствования из английского языка, прошедшие процедуру транслитерации: электроскутер , электроскейтборд , ролики , гироскутер , сигвей , фэтбайк , кикборд , гироцикл , ховеркарт и др. Наблюдается требуемая для транслингвальных единиц грамматическая адаптация форм, предполагающая их подчинение нормам формоизменения существительных в соответствии с грамматическими категориями рода, числа, падежа, склонения в русском языке. Приведем пример. Отсутствующая в английском языке полноценная система падежного словоизменения появляется у русскоязычных аналогов: Одно из колес гироскутер а въехало в ямку (муж. р., ед. ч., род. п.), о роллерборд е можно говорить бесконечно (муж. р., ед. ч., предл. п.). Заимствованные единицы грамматически согласуются с характеризующими их прилагательными: многофункциональн ые девайс ы , модн ому сигве ю .
Результаты анализа процесса адаптивного словообразования показали, что преобладающее большинство транслингвальных единиц, номинирующих СИМ, прошли основные этапы языковой адаптации, хотя в текстах встречаются варианты с внешним лексическим компонентом, указывающим на принадлежность заимствованной номинации к средствам индивидуальной мобильности, например: Компания Thrustcycle разработала электрический мотоцикл GyroCycle , обладающий функцией самостоятельной балансировки 6 .
В моделируемом тезаурусе выделяется вторая тематическая группа слов. Она номинирует лица, использующие / владеющие
СИМ. Наряду с принятыми в русском языке словами пешеход , водитель , для точности обозначения агента как компонента концепта «ИМ» используются более широкие номинации лиц ( гражданин , гражданка , девушка , мужчина , молодой человек , человек , товарищ ) с опциональным добавлением вида транспорта, на котором они передвигаются, например: девушка на гироскутере , гражданин на электроскейтборде . Указанные единицы, ввиду их обобщенного значения, дополняются некоторым количеством номинаций лица, конкретизирующих разновидность избранных СИМ, – существительными, образованными от названия вида транспорта, например: ( электро ) самокат – самокатчик ; электросамокатчик ; велосипед – велосипедист ; мотоцикл – мотоциклист . При этом поскольку в лексическом слое тезауруса присутствуют заимствованные из английского языка и адаптированные наименования СИМ, то они становятся основой для деривационных процессов, в ходе которых к иноязычной корневой морфеме присоединяются русские суффиксы - ист , -чик , призванные обозначать деятеля (лицо, совершающее действие): гироскутер – гироскутер ист ; ( электро ) скутер – ( электро ) скутер ист ; сигвей – сигве ист ; самокат – самокат чик ; для обозначения лица, перемещающегося на моноколесе, создано слово-гибрид моноколес ист .
В список слов входят единицы скейтер, байкер, райдер, роллер, являющиеся транслитерацией английских слов skater, biker, rider, roller. Квазисуффикс -ер не относится к типичным для русского языка морфемам, он заимствован из системы словообразования английского языка, где посредством его присоединения к глагольному корню создается существительное, обозначающее лицо, совершающее действие, выраженное глаголом. Именно поэтому в русскоязычном медийном контенте наблюдается графическая адаптация единиц, полностью совпадающих по форме и звучанию и частично по семантическому наполнению лексем с единицами языка-донора. Например, скейтер от англ. skater: 1 – a person who skates = человек, который катается на коньках; 2 – same as skateboarder (скейтбордист) (COED). Следует отметить, что при использовании квазиморфемы -ер но- сители русского языка применяют деривационную модель [наименование СИМ + суффикс -ер] для обозначения человека, который катается на роликах, – роллер, но в исходном английском варианте – rollerblader.
Для номинации лица используются средства, указывающие на гендерные различия: в грамматике русского языка – суффиксы и окончания. Так, к некоторым наименованиям СИМ созданы пары для обозначения гендерного признака лица, управляющего СИМ: самокат чик – самокат чиц а , сигве ист – сигве ист-к а , скутер ист – скутер ист-к а . Выявлены стилистически маркированные варианты маскулятивов и феминитивов – слов, обозначающих лицо мужского или женского пола с признаком отрицательной (критичной) оценки, например: роллер – роллер ша ; самокатчик – самокат чица ; моноколес ист , моноколес ник – моноколес ист - к а. Для повышения стилистической нейтральности в информационных сообщениях избираются варианты обозначения через супплетивную (внешнюю) единицу и предлог ( девушка на электросамокате ); встречаются феминити-вы, образованные от субстантивированных прилагательных ( неизвестная на электросамокате ) или двойная феминитизация ( де-вушка-самокатчица ).
Отмеченные выше приемы гибридизации транслингвальных номинаций для обозначения СИМ ( скейтборд , кикборд и др.) становятся основой для образования нового существительного, номинирующего лицо, например маун-тинборд (доска с четырьмя колесами для передвижения по холмистой местности) как производное от заимствованного из английского маунтин (англ. mountain – гора). Активно используются производные от заимствованных из греческого и латинского языков корневые морфемы мотор- (лат. motor – приводящий в движение), гиро- (греч. gyros – круг), элект- дТ- (греч. elektron - смола, янтарь), моно- (греч. monos – один, единый) в сочетании со второй корневой морфемой (СИС): -борд , -скутер , -колесо ( мото-борд , электро-лонг-борд , мотор-колесо ) . Двусоставная структура слов (сложение корневых основ) не мешает дальнейшей суффиксальной деривации по модели русского языка: электро-само-кат- чиц а , электро-скейт-борд- ист .
Интересными представляются случаи творчества в словообразовании – частичного словосложения, когда имя бренда или марки СИМ переводится с помощью транскрибирования в корневую морфему, номинирующую модель самоката. Например, английский вариант названия Inmotion L8F обозначен в текстах в полной ( это по ощущениям отличается от инмоушена ) и редуцированной формах как конституент слова-гибрида: инмо кат ; Сяокат – самокат Xiaomi Mija 365 (название производителя Xiaomi произносится как Сяоми ).
Транслингвальные единицы, вошедшие в тезаурус медийного корпуса, демонстрируют свой деривационный потенциал. В нашем материале наблюдается появление единиц, построенных по транслингвальной деривационной аналитической модели, характерной для английского языка. Так, производящая основа, например, скейт , самокат , минуя традиционные аффиксальные деривационные формулы русского языка, используется для порождения слов-гибридов. В препозиции к определяемому слову помещается существительное (дескриптор) по аналогии с англоязычной моделью [noun + noun]: роллер-центр , самокат-школа , самокат-комьюнити , самокат-клуб .
Приведенные сведения и примеры отражают языковые процессы образования единиц, номинирующих ключевые понятия концептуального домена «ИМ», с опорой на нормы словообразования русского языка и некоторые приемы языковой адаптации транслингвальных единиц (универсальных словоформ, обозначающих популярные СИМ и принимаемых в своей графической форме и со своим терминологическим значением во многие языки мира). В них отражаются и попытка пройти языковые этапы адаптации к нормам русского языка, и попытка привнести в систему русского словообразования иноязычные модели.
Корпусный анализ наличия выделенных ключевых номинаций СИМ и лиц, владеющих ими, в собственной коллекции текстов с использованием временнóго критерия и значения нормализованной частоты представлен в таблице 3 и отражает различия по временны′м точкам включения этих единиц в медийный контекст. Словосочетания, обобщающие разновидности СИМ, демонстрируют различия: значительный рост использования гиперонимов средство индивидуальной мобильности, лицо (владеющее средством индивидуальной мобильности) к 2023 г. и значительное уменьшение востребованности варианта средство передвижения.
Активно востребованными в информационно-новостном контенте являются следующие наименования разновидностей СИМ: электросамокат (от 9850.75 в 2019 г. до 11864.020 в 2023 г.); самокат демонстрирует флактуационные изменения (4225.77 и 4220.853 в 2020 и 2023 гг., двойной рост до 8815.80 в 2021 г.); велосипед показывает сходную тенденцию – рост в 2019– 2022 гг. от 1985.07 до 4613.36. В отдельные годы проявляется мода на моноколесо (2089.55 в 2019 г. и 2855.89 в 2022 г.), мопед (1492.53 в 2019 г. и 1757.70 в 2022 г.) и гироскутер (1492.53
в 2019 г.). Значительный рост нормализованной частотности указывает на периоды, когда в публичном медийном пространстве началось активное обсуждение вопросов безопасности присутствия СИМ в городе. Этим объясняется и периодический рост востребованности единиц владелец СИМ (3880.59 в 2019 г.) и лицо с последующим уточнением транспортного средства (2181.542 в 2023 г.), а также некоторых групп пользователей СИМ в 2023 г.: самокатчик (до 2167.425), электросамокатчик (1597.080), велосипедист (1597.080). Езда на скутере не попало в модный тренд, изредка оно упоминалось в 2020, 2022 гг., а микромобильность и кикше-ринг , отражающие закрепление тренда модного образа жизни, отмечены в 2021 и 2023 годах.
На основе выделенных ключевых единиц был проведен дистрибутивный корпусный анализ текстового материала, позволивший выявить более точный тематический спектр единиц язы-
Таблица 3. Динамика использования лексики, обозначающей средства индивидуальной мобильности, лиц, их использующих, и процессы в дискурсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)
Table 3. Dynamics of the use of lexical items that nominate individual mobility devices, their users and activities in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)
|
Существительные, номинирующие СИМ и их пользователей |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|
Средство индивидуальной мобильности (СИМ) |
– |
694.03 |
2716.57 |
2288.71 |
2416.52 |
3650.468 |
|
Средство передвижения |
2004.01 |
3283.58 |
1509.21 |
1780.114 |
1977.15 |
228.154 |
|
Электросамокат |
4676.02 |
9850.75 |
15695.74 |
10087.31 |
14499.22 |
11864.020 |
|
Электрокат |
– |
895.52 |
– |
– |
– |
– |
|
Самокат |
4008.02 |
4761.19 |
4225.77 |
8815.80 |
5931.46 |
4220.853 |
|
Велосипед |
7020.04 |
1985.07 |
2414.73 |
3814.53 |
4613.36 |
114.017 |
|
Моноколесо |
668.00 |
2089.55 |
– |
1101.975 |
2855.89 |
456.309 |
|
Мопед |
– |
1492.53 |
2112.89 |
847.673 |
1757.70 |
342.231 |
|
Гироскутер |
1336.01 |
1492.53 |
905.524 |
762.906 |
1537.77 |
342.231 |
|
Сигвей |
– |
895.52 |
– |
423.837 |
1977.15 |
228.154 |
|
Скутер |
– |
– |
905.524 |
84.767 |
219.68 |
114.077 |
|
Электроскутер |
– |
– |
– |
84.767 |
1 |
228.154 |
|
Девайс |
– |
– |
– |
– |
878.73 |
114.077 |
|
Владелец СИМ |
1336.01 |
3880.59 |
2112.89 |
254.302 |
1537.78 |
114.077 |
|
Лицо |
– |
– |
905.52 |
1271.51 |
– |
2181.542 |
|
Самокатчик |
– |
1194.03 |
– |
593.37 |
– |
2167.425 |
|
Электросамокатчик |
– |
– |
– |
508.604 |
219.68 |
1597.080 |
|
Велосипедист |
3020.04 |
895.52 |
603.68 |
1186.742 |
1318.10 |
1597.080 |
|
Скутерист |
– |
– |
– |
– |
219.68 |
– |
|
Райдер |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
|
Экстремал |
– |
895.522 |
– |
– |
– |
– |
|
Микромобильность |
– |
298.507 |
– |
2288.78 |
439.37 |
114.077 |
|
Кикшеринг |
– |
– |
– |
1441.04 |
1098.49 |
684.463 |
ка, используемых для медиативного представления зоны транспортной мобильности концепта «ИМ» в русскоязычном дискурсе. Она получает событийно-ситуативное отражение с помощью специфического подбора глагольных единиц, объединенных в тематическую группу «Активное движение» (табл. 4). Это небольшой список глаголов с семантикой движения (18 единиц) – от нейтральных ( ехать , ездить , проехать , отъехать , выехать , двигаться , передвигаться , управлять ) до описательных ( кататься , лавировать , устраивать гонки ) и образно-оценочных, передающих отношение к лицам, использующим СИМ ( мчаться , проноситься , нестись , гонять , гнать , рассекать , лихачить ).
Как следует из данных о нормализованной частоте, из нейтральных глаголов в текстах стабильно доминируют ехать / ездить (от максимума 5074.62 в 2019 г. до 3080.08 в 2023 г.), востребованы управлять и двигаться / передвигаться (максимум в 2020 г. 3622.09 и 3018.41 соответственно). Отметим рост описательных и образно-оценочных глаголов в период 2021– 2023 гг., что отражает рост сообщений о происшествиях, связанных с бессистемным и нерегулируемым перемещением на СИМ, желание публично обсудить инструменты регулирования:
-
(3) Возмущают любители погонять на борде . Гоняют на бульваре на своих самокатах. Операто-
- ры кикшеринга располагают средствами, позволяющими следить за теми, кто лихачит и наказывать их за нарушения штрафами и блокировкой 7.
Медиатизация изучаемого явления транспортной микромобильности в корпусе текстов в период с 2018 по 2023 г. отражает актуальность объективного описания разных социальных аспектов этого явления. На это указывает изменение тематики и тональности информационных сообщений: до 2018 г. появлялись статьи, описывающие преимущества средств индивидуальной мобильности в большом городе (примеры (4), (5)), сообщающие о создании в городах инфраструктуры для аренды СИМ (пример (6)), о проведении общегородских акций и велопробегов (пример (7)):
-
(4) Развитие микромобильности – это все-таки один из путей повышения безопасности дорожного движения;
-
(5) Есть еще одно решение – пересесть на компактный электротранспорт в теплое время года. И если с электровелосипедами все более-менее понятно, про них многие из нас слышали, то про мотосамокаты и электроскейтборды знают единицы;
-
(6) Количество поездок на арендованных самокатах выросло в восемь раз в Москве и в 30 раз в других городах страны. За это время кикшерингом клиенты пользовались почти 17 тыс. раз;
Таблица 4. Динамика использования глагольной лексики, обозначающей перемещение на средствах индивидуальной мобильности, в дискурсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)
Table 4. Dynamics of the use of lexical items that nominate individual mobility devices in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)
Глаголы с семантикой движения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Ехать / ездить
1336.00
5074.62
4225.77
1949.64
2636.20
3080.08
Проехать
–
298.50
603.68
169.53
–
684.46
Отъехать
–
597.01
–
–
–
597.01
Выехать
–
597.01
301.84
114.77
113.26
–
Управлять (СИМ )
670.00
597.01
3622.09
1695.34
1537.78
2851.92
Двигаться / передвигаться
2004.00
1194.03
3018.41
1610.57
878.73
1140.77
Кататься
–
–
–
1456.67
–
1345.87
Лавировать
–
190.70
277.23
348.12
1198.70
1280.47
Мчаться
–
–
–
–
–
1130.23
Проноситься
–
–
726.48
2458.38
3761.64
2184.45
Устроить / устраивать гонки
–
–
301.84
1151.17
1392.41
1726.76
Нестись
–
–
298.50
1214.56
1345.87
1478.90
Гонять / гнать
–
190.70
301.84
1875.37
1246.23
1345.67
Рассекать
–
–
1546.78
1856.89
2008.56
2457.89
Лихачить
–
623.14
1876.56
2789.73
3486.21
2895.34
-
(7) Давайте премировать баллами за участие в велопробегах за безопасную езду и индивидуальную транспортную мобильность .
С 2018 г. отмечаются рост сообщений о травмоопасности СИМ на улицах города, озабоченности представителей администрации и жителей, призывах к представителям органов правопорядка предложить юридические меры регулирования движения на СИМ:
-
(8) В 2022 году случилось 976 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности , в них пострадал 941 человек и погибли 19. В 2021 году таких случаев было 704 (672 пострадавших и 20 погибших );
-
(9) За последние годы ездоки на моноколесах, электросамокатах и других модных персональных средствах передвижения стали в Москве привычным зрелищем. Высокая мобильность и способность развивать скорость 20–50 км/ч сделали эти устройства популярными среди горожан. Но в стране по-прежнему отсутствует законодательная база , регулирующая использование такой техники, поэтому владельцы лихо лавируют между прохожими, рассекают по велодорожкам и проезжей части, часто создавая опасные ситуации. <...> Найти выход уже давно пытаются и чиновники, и общественность.
На рост тревожности и осознание неоднозначности позитивного отношения к появлению СИМ в городе с 2018 г. указывают дан- ные корпуса, в тезаурусе присутствуют лексемы, которые можно объединить в тематическую группу «Травмоопасность» (табл. 5). Эти слова (существительные, причастия, глаголы) активируют признаки негативного отношения к СИМ, поскольку сообщают о травмоопасных происшествиях: авариях, дорожных инцидентах, наездах, госпитализациях, вреде здоровью, смертельных исходах.
В информационном потоке ежедневно встречается информация об опасности, о некорректном поведении пользователей СИМ:
-
(10) В Москве 48-летнюю женщину госпитализировали с переломами после наезда самоката . Об этом сообщил источник «Известий» 21 июля. Инцидент произошел около 23:20 вечера на ул. Летчика Бабушкина. Сразу после наезда на женщину самокатчик скрылся . После столкновения она обратилась в травмпункт , где ее ушибы квалифицировали как повторный перелом ребер . Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. Днем ранее в Санкт-Петербурге 29-летний электросамокатчик наехал на первоклассника, в результате чего мальчик получил сотрясение головного мозга . Школьника с раной на лице госпитализировали . Медики также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму .
Рост сообщений о травмоопасности СИМ на улицах города, несомненно, вызыва-
Таблица 5. Динамика использования лексики с семантикой травмоопасности в дискурсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)
Table 5. Dynamics of the use of lexical items that nominate injury risk in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)
|
Список слов |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|
Безопасность |
610.01 |
895.22 |
– |
1356.27 |
2636.30 |
1711.57 |
|
Опасность |
610.01 |
895.22 |
603.68 |
593.37 |
439.36 |
570.38 |
|
Происшествие |
– |
– |
1207.36 |
1186.74 |
1318.10 |
228.15 |
|
Авария |
– |
– |
301.84 |
3560.22 |
1757.46 |
1597.08 |
|
Наезд |
– |
298.507 |
– |
593.37 |
219.68 |
1254.84 |
|
Инцидент |
– |
597.015 |
603.68 |
678.13 |
– |
456.30 |
|
Травма (-тизм) |
1336.00 |
895.22 |
603.68 |
1695.34 |
659.05 |
1483.00 |
|
Травмировать |
– |
– |
– |
– |
– |
114.07 |
|
Повреждение |
– |
– |
– |
678.13 |
– |
798.54 |
|
Повредить |
– |
– |
– |
169.53 |
– |
– |
|
Пострадавши(-й/-е) |
– |
– |
301.84 |
423.83 |
1219.68 |
456.31 |
|
Погибши(-й/-е) |
– |
447.11 |
– |
– |
1098.41 |
– |
|
Угроза (здоровью / жизни) |
– |
447.11 |
– |
– |
– |
553.22 |
|
Риск / риски (для имущества / взрыва / возгорания) |
– |
– |
– |
254.30 |
659.05 |
570.38 |
|
Источник повышенной опасности |
335.01 |
– |
301.341 |
169.53 |
111.53 |
342.23 |
ет негативную реакцию жителей города и представителей власти, что отражается в появлении информации об обсуждениях проблемы повышения безопасности, поиске юридических приемов контроля. В таблицах 6 и 7 представлены лексемы, указывающие на медиатизацию темы «Административное регулирование».
Как следует из таблицы 6, поддержка СИМ и одобрение их присутствия в городе ( разрешение , разрешать ) были максимальными в 2019 г. (2089.55), к 2023 г. отмечается стабильное снижение частоты упоминания этого административного действия и увеличение числа лексических единиц с семантикой контроля, запрета и ограничения: ограничить , ужесточить , запрещать , наложить штраф . В корпусе текстов представлено значительное количество сообщений об этом:
-
(11) В РФ предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах. В Брянске запретят парковать самокаты где попало;
-
(12) Пешим ходу: электросамокатчиков впишут в КоАП и начнут штрафовать. Знай свое место: пользователей электросамокатов хотят приструнить ;
-
(13) Губернатор Архангельской области поддержал ограничение скорости электросамокатов.
Отметим, что в 2023 г. доминирует рациональный подход к решению проблемы безопасности и порядка в городе, поскольку уменьшается количество упоминаний требования ограничить (от 3814.52 и 3954.30 в 2021 и 2022 гг. до 1483.00 в 2023 г.), запретить (от 3320.25 в 2020 г. до 912.61 в 2023 г.) и увеличивается частотность требования контролировать (от 905.52 в 2020 г. до 1228.154 в
2023 г.), регулировать (от 597.01 в 2019 г. до 1798.54 в 2023 г.).
В медийном контенте наблюдается рост сообщений о предложениях представителей власти по контролю за действиями пользователей СИМ, о разработке законодательных и административных документов, определяющих степень нарушения правил движения, степень ущерба, процедуры определения наказания. На появление тематики административного контроля и юридического обеспечения наказания указывают данные таблицы 7.
Отметим доминирование в дискурсивном тезаурусе административных терминов нарушать , нарушение , нарушитель (до 7072.78 в 2023 г.), наказать , наказывать , наказание (1597.08 в 2023 г.), вводить ( штраф , ограничения , регистрацию и пр.) (1254.84 в 2023 г.), оштрафовать (3320.25 в 2020 г.), составить протокол (1509.20 в 2020 г.), возбуждать уголовное дело (1026,69 в 2023 г.), правонарушение (1026.69 в 2023 г.), упоминание об административной ответственности.
Таким образом, тематическая организация составленного тезауруса демонстрирует гибридный характер лексики, используемой для институционализации концепта «ИМ» в проанализированном медийном контенте. Тематическое ядро тезауруса («Средства индивидуальной мобильности», «Номинации лиц, использующих средства индивидуальной мобильности») дополняется лексикой, характеризующей процессуальность концептосферы («Активное движение»). При этом в число доминирующих по частотности единиц, кроме лидирующих к 2023 г. электросамокат (11864.020), самокат (4220.853), средство индивидуальной мобильности , СИМ (3650.468),
Таблица 6. Динамика использования лексем с семантикой контролирующих мер в дискурсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)
Table 6. Dynamics of the use of lexical items with the semantics of control in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)
|
Список слов |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|
Разрешение / разрешать |
668.00 |
2089.55 |
905.52 |
762.90 |
878.73 |
456.30 |
|
Запрет / запрещать |
668.00 |
597.01 |
3320.25 |
1356.27 |
1757.46 |
912.61 |
|
Регулирование / регулировать |
– |
597.01 |
– |
1780.11 |
659.05 |
1798.54 |
|
Ограничение / ограничивать |
668.00 |
2686.56 |
1509.20 |
3814.52 |
3954.30 |
1483.00 |
|
Контроль / контролировать |
– |
– |
905.52 |
678.139 |
439.36 |
1228.154 |
|
Ужесточение / ужесточить |
– |
– |
– |
– |
– |
114.077 |
|
Наложение / налагать (штраф) |
– |
– |
301.841 |
– |
– |
402.111 |
Таблица 7. Динамика использования административно-юридических терминов в дискурсивном тезаурусе (с указанием нормализованной частоты)
Table 7. Dynamics of the use of administrative and legalistic terms in the discourse thesaurus under study (with relative frequencies)
Заключение
Представленные данные о специфике медиатизации относительно нового транскультурного концепта «Индивидуальная мобильность», основанные на предложенной методике корпусно-дискурсивного анализа медийного контента и гипотезе о динамичной институционализации как одной из форм объективно ориентированной медиатизации концепта в массовом сознании, указывают на некоторые векторы динамичного включения изучаемой инородной концептосферы в понятийную (бытийную) картину жителей России в период с 2018 по 2023 год.
Концепт «Индивидуальная мобильность» как социально важный знак популярного стиля жизни инкорпорируется в общую русскоязычную медийную картину посредством информирования о СИМ, их технических характеристиках, функциональных возможностях, социальной полезности и утилитарной ценности для горожан (в первую очередь к 2018 г.). Однако регулярное описание травмоопасных событий с 2021 г. (ДТП, наездов, увечий, ранений), ассоциируемых с использованием СИМ, указывает на формирование негативного отношения к СИМ на улицах города. Их дополняют сообщения о требовании горожан к представителям администрации упорядочить присутствие пользователей СИМ на улицах города. В корпусе отмечается рост упоминаний об административно-юридических мерах, предлагаемых для обеспечения безопасности людей на улицах городов России.
На динамичность усиления или уменьшения значимости разнонаправленных векторов социальной оценки внедряемой концептос-феры указывают данные о нормализованной частотности единиц, составляющих основу тезауруса собственной коллекции текстов медийных сообщений о СИМ. При его когнитивно-семантической реконструкции было выделено терминологическое ядро «СИМ», объединяющее номинации транспортных средств персональной мобильности и лиц, их использующих, и понятийно близкие глагольные номинации активных транспортных перемещений; оно стало семантической базой для публичного обсуждения социальной полезности СИМ в городе.
На динамику и специфику медиатизации оценочного представления о внедряемом транскультурном концепте «Индивидуальная мобильность» указывает возрастающая по годам частотность включения в сообщения лексики, относящейся к теме «Травмоопас-ность» ( авария , травма , наезд и др., особенно в 2021–2023 гг.), что влияет на формирование негативного отношения горожан к внедряемому популярному стилю жизни. Об осознании опасности и потребности обеспечить безопасное пребывание людей на улицах города свидетельствует рост частотности лексики, номинирующей введение контролирующих мер и административно-юридических норм в 2022– 2023 гг. ( нарушать , нарушение , нарушитель , наказать , наказывать , наказание , штрафовать , контролировать , ограничивать , запрещать и др.). К середине 2023 г. в медийном контенте выявляется доминирование критичного отношения к пользователям СИМ, которое проецируется на СИМ и ассоциируемый с ними модный стиль жизни.
Предложенная методика выявления динамики употребления лексических единиц, составивших тезаурус коллекции текстов, которая опирается на корпусные методы сбора и количественный анализ данных, может быть использована при мониторинге разных концеп- тов (транскультурных, этнокультурных), прошедших или проходящих процедуру медиатизации как дискурсивной стратегии трансляции образцов поведения и моделей восприятия информации, способных оказать влияние на ценностные ориентации и общезначимые смыслы современного социума.
Список литературы Динамика медиатизации транскультурного концепта «индивидуальная мобильность»: корпусно-ориентированное исследование
- Артамонова Ю. Д., Володенков С. В., 2021. Медиатизация как исследовательский концепт: основные предпосылки, формирование и возможности дальнейшего развития // ПРАКСЕМА: проблемы визуальной семиотики. № 2 (28). С. 9–27.
- Вакку Г. В., Лебедева С. Э., 2022. Медиатизация как современный социокультурный тренд // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию В.Д. Потаповой. Донецк: Донец. нац. ун-т. С. 198–204.
- Волкова О. С., 2021. Лингвопрагматика английских заимствований в русскоязычном дискурсе массовой коммуникации (на материале названий обуви) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 20, № 6. С. 134–145. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.6.12
- Гуреева А. Н., 2016. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой среды // Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика. № 6. С. 192–208. URL: www.vestnik. journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-vusloviyakh-tsifrovoy-sredy/
- Гуреева А. Н., Кузнецова В. С., 2021. Концептуализация феномена медиатизации политики: основные теоретические подходы // Вопросы теории и практики журналистики. Т. 10, № 1. С. 191–205.
- Донцов А. И., Асланов И. А., 2022. Термин «репрезентация» в дискурсе медиаисследователей: попытка концептуализации термина // Медиаскоп. Вып. 2. DOI: 10.30547/mediascope.2.2022.1
- Ивченков В. И., 2018. Медиадискурс современнос-ти: стилистические приоритеты и экстралингвистические факторы // Актуальные проблемы стилистики. № 4. С. 71–76.
- Ивченков В. И., 2019. Новые модели коммуникации и стилистические приоритеты современного медиадискурса // Медиалингвистика. Т. 6, № 1. С. 135–144.
- Ильинова Е. Ю., 2016. Семантическая категоризация при реконструкции тематического содержания текста новостного сообщения // Когнитивные исследования языка. № 26. С. 537–539.
- Карасик В. И., 2002. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена. 477 с.
- Карасик В. И., 2010. Языковая кристаллизация смысла. Волгоград: Парадигма. 421 с.
- Карасик В. И., 2022. Языковая лестница познания. М.: Гос. ин-т рус. яз. 462 с.
- Кириллова Н. Б., 2005. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Акад. проект. 448 с.
- Кочетова Л. А., Ильинова Е. Ю., 2023. Лингвокультурная специфика дискурсивных практик репрезентации кибербезопасности в русскоязычном медийном пространстве: корпусный подход // Научный диалог. № 12 (3). С. 134–152. DOI: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-3-134-152
- Кочетова Л. А., Кононова И. В., 2019. Когнитивно-корпусный подход к анализу конструирования ценностных смыслов в рекламном дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2. С. 65–74.
- Лебедева С. Э., Вакку Г. В., Степанова С. Е., Касаткина А. Е., 2018. Основные тенденции медиатизации современного социокультурного пространства // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. № 4. С. 69–76.
- Лущинская О. В., 2021. Структурно-организационные и содержательные характеристики медийного дискурса на примере веб-сайта «The Guardian» // Филология и человек. № 3. С. 158–173. DOI: 10.14258/filichel(2021)3-13
- Мамонова Н. В., 2021. Медиадискурс как глобальное коммуникативное пространство // Гуманитарные исследования. История и филология. № 3. С. 68–74. DOI: https://doi.org/10.24412/2713-0231-2021-3-68-74
- Примаков В. Л., 2019. Медиатизация как теоретический концепт // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. № 3. С. 221–238.
- Рогозина И. В., 2003. Медиа-картина мира: сущность, структура, категории и функции // Аспекты исследования картины мира: коллектив. моногр. Барнаул: Изд-во АГТУ. С. 59–130.
- Федотова Н. А., 2022. Процесс медиатизации: подходы к пониманию // Знак: проблемное поле медиаобразования. № 2 (44). С. 61–66. DOI: https://doi.org/10.47475/2070-0695- 2022-10208
- Чернявская В. Е., 2017. Методологические возможности дискурсивного анализа в корпусной лингвистике // Вестник Томского государственного университета. Филология. № 50. С. 135–148. DOI: 10.17223/19986645/50/9
- Шмелева Т. В., 2015. Медиатизация как феномен современной культуры и объект исследования // Вестник НовГУ им. Ярослава Мудрого. № 90. С. 145–148.
- Якоба И. А., 2019. Внешние и внутренние параметры медийного дискурса // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 3 (180). С. 94–100.
- Corner J., 2018. Mediatization: Media Theory’s Word of the Decade. URL: https://mediatheoryjournal.org/john-corner-mediatization/
- Couldry N., Hepp A., 2013. Conceptualizing Mediatization: Contexts, Traditions, Arguments // Communication Theory. № 23 (3). P. 191–202.
- Deacon D., Stanyer J., 2014. Mediatization: Key Concept or Conceptual Bandwagon? // Media, Culture & Society. № 36 (7). P. 1032–1044.
- Gabrielatos С., 2018. Keyness Analysis: Nature, Metrics and Techniques // Corpus Approaches to Discourse: A Critical Review. Oxford: Routledge. P. 225–258.
- Finnemann N. O., 2011. Mediatization Theory and Digital Media. URL: https://www.researchgate.net/publication/272537215_Mediatization_theory_and_digital_media
- Flew T., 2017. The ‘Theory’ in Media Theory // Media Theory. № 1 (1). P. 43–56.
- Friedman Th., 2005. The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. N. Y.: Farrar, Straus, Giroux. 488 p.
- Hepp A., Hjarvard S., Lundby K., 2015. Mediatization: Theorizing the Interplay Between Media, Culture and Society // Media, Culture & Society. № 37 (2). P. 314–324.
- Hodkinson P., 2011. Media, Culture and Society. L.: SAGE. 320 p.
- Kochetova L. A., Ilyinova E. Yu., 2020. English Academic Discourse in Translinguistic Context: Corpus-Based Study of Lexical Markers // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 19, № 5. P. 25–37. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.5.3
- Laclau E., 1995. The Time is out of Joint // Diacritics. Vol. 25, № 2. P. 85–96.
- McLuhan M., 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press. 293 p.
- Nőlleke D., Scheu A. M., Birkner Th., 2021. The Other Side of Mediatization: Expanding the Concept to Defensive Strategies // Communication Theory. Vol. 31, iss. 4. P. 737–757. URL: https://doi.org/10.1093/ct/qtaa011
- Silverstone R., 2006. Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis. Cambridge: Polity Press. 224 p.