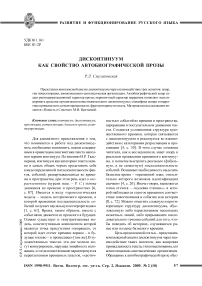Дисконтинуум как свойство автобиографической прозы
Автор: Смулаковская Раиса Леонидовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
Представлен комплексный анализ дисконтинуума через взаимодействие трех аспектов: жанр, тип повествования, композиционно-синтаксическая организация. Автобиографический жанр задает реинтерпретационный характер прозы; перволичный характер нарратива позволяет эксплицировать средства организации повествовательного дисконтинуума; специфика жанра и нарратива проявляется в сегментированности, фрагментарности текста. Материалом исследования является «Повесть о Сонечке» М.И. Цветаевой.
Континуум, дисконтинуум, проспекция, ретроспекция, базисное время, реинтерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/14969424
IDR: 14969424 | УДК: 811.161
Текст научной статьи Дисконтинуум как свойство автобиографической прозы
Для адекватного представления о том, что понимается в работе под дисконтинуумом, необходимо напомнить, каким содержанием в ориентации лингвистики текста наполнен термин континуум. По мнению И.Р. Гальперина, континуум как категорию текста можно в самых общих чертах представить себе в виде определенной последовательности фактов, событий, развертывающихся во времени и пространстве, при этом речь идет о «не-расчлененном (курсив наш. – Р. С.) потоке движения во времени и пространстве» [6, с. 87]. Имеется в виду «хронологическая модель – модель исторического времени, в которой временная последовательность событий получает каузальную интерпретацию» [1, с. 61]. Время, таким образом, вместе с событиями движется из прошлого в будущее. Однако существует и «внутриязыковая модель, конститутивным компонентом которой является точка присутствия говорящего, от которой идет отсчет времени вправо – в будущее и влево – в прошедшее» [там же]. В художественных текстах эти две модели могут конкурировать, нарушая линейность изложения, и тогда повествование характеризуется переплетением временных пластов, «хаотич- ностью» событий во времени и пространстве, перерывами в поступательном движении текста. Создается усложненная структура художественного времени, которая связывается с дисконтинуумом и реализуется во взаимодействии с категориями ретроспекции и про-спекции [4, с. 30]. В этом случае сознание читателя, как и исследователя, ищет опору в реальном проявлении временного континуума, в попытке выстроить реальную (фабульную, а не сюжетную) последовательность событий. Возникает необходимость выделить базисное время – «временной план, относительно которого возможна идентификация скачков» [4, с. 20]. Иначе говоря, выявляется точка отсчета – «нулевая степень», в которой наблюдается строгое временное соответствие повествования и события или истории [8, с. 72]. Можно отметить сложную и противоречивую структуру дисконтинуума, обусловленную либо переплетением нескольких сюжетных линий, либо прерыванием последовательного течения событий для того, чтобы поведать об историях, случившихся ранее или позднее базисного времени.
Цель предлагаемой статьи – представить комплексный анализ дисконтинуума через взаимодействие таких аспектов, как жанровая принадлежность текста, тип повествования, его композиционно-синтаксическая организация. Обращение к автобиографической прозе обус-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ловлено конститутивными свойствами текстов, принадлежащих к данному жанру. Конкретным материалом исследования является «Повесть о Сонечке» М.И. Цветаевой [12]1 как автобиографический текст, позволяющий, на наш взгляд, достаточно полно реализовать поставленную в работе цель.
Указание на жанровую природу текста включено в его заглавие, вынесено в сильную позицию, что позволяет предположить смысловую осложненность лексемы «повесть», ее несводимость лишь к терминологическому значению. Словарь предлагает следующее толкование: «Повествовательное произведение с сюжетом менее сложным, чем в романе, и обычно меньшее по объему.//Устар. Повествование, рассказ.//Совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-л., история (полужирный наш. – Р. С.)» [10, с. 58– 59]. В названии контаминируются два компонента дефиниции: жанровый – ‘повествовательное произведение’ и ‘совокупность фактов и событий, история’ – история как прошлое, сохраняющееся в памяти человека и ощущаемое так же остро, как настоящее. При этом перед нами история автобиографическая, то есть такая, в которой, по словам Г.О. Винокура, «личность интересна не как константное и определившееся, а непременно как динамическое» [5, с. 39]. Динамичность является неотъемлемым атрибутом переживания, благодаря которому «мы получаем право говорить о личной жизни как творчестве» [там же, с. 44–45]. Это сама жизнь, непременно конкретная и цельная, в то же время «пестрый и случайный матерьял текущей социальной действительности», который «творческим усилием возводится в степень поэтического бытия» [там же, с. 78]. «Повести о Сонечке» свойственны конвенциональные для автобиографической прозы признаки: 1) перволичное авторское субъективное начало; 2) включенность в структуру повествования внешнего адресата (читателя) и его интенций; 3) избирательность описываемого; 4) ретроспективный способ воссоздания действительности и память как его специфическое средство; 5) ре-интерпретационная направленность жанра [11, с. 186]. Отметим, что в биографической прозе, фактуальной по своей природе (в «По- вести о Сонечке» фактуальность представлена заметками из дневника, записными книжками, письмами, то есть «реальным комментарием»), границы между фактуаль-ным и фикциональным повествованием определить весьма сложно, как и характер соотношения автора, рассказчика и персонажа [8, с. 385–406].
«Повесть о Сонечке» относится к перволичному повествованию, или диегетическо-му, для которого характерна «презумпция автобиографизма» [3, с. 346]. При этом произведение М.И. Цветаевой – текст-воспоминание, воспоминание, что «в основном обращено назад, но поворачивается и обращается в будущее» [7, с. 185]. Когда-то прожитые события проживаются (переживаются) снова. Отсюда та мера авторского всеведения, которая не свойственна повествованию от первого лица. Вступает в силу явление реинтерпретации, типичное для биографической прозы, где проступает вся безусловность и непосредственность воспоминания (И. Анненский). Ре-интерпретационный характер повествования эксплицируется разнообразными фактуальны-ми и оценочными комментариями (метатекстами). В тексте присутствует как «Я» повествующее (интерпретирующее), так и «Я1» повествуемое (интерпретируемое) [там же, с. 190]. Это обусловлено ретроспективной природой автобиографического повествования, когда не совпадает время излагаемого (истории) и время повествования, а следовательно, может не совпадать последовательность (порядок) событий в нарративе и истории [8, с. 69– 71]. Заметим, что в автобиографической прозе существуют трудности в выявлении базисного времени, поскольку в этом жанре в силу реинтерпретации можно выделить два принципа выделения точки отсчета: 1) время автора в момент написания текста и 2) время автора-персонажа произведения. В «Повести о Сонечке» время повествования (1) «Я» отнесено к 1937 году, место – Франция. При этом пространственно-временная локализация обозначена точно не только в конце текста ( Lacanau-Ocean, лето 1937 ), но и внутри повествования: ...Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 года, на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке «Souvenirs»… (с. 216,
-
153) . Базисное время (2) «Я1» – это 1919 год, весна, оно также эксплицировано «Я» интерпретирующим: Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит – весной. Весной 1919 года, и не самой ранней весной, а вернее – апрельской, потому что с нею у меня связаны оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков (с. 42), то есть ретроспективность повествования очевидна. Автор, максимально сближенный с рассказчиком («Я»), сам задает последовательность излагаемого (истории) в виде комментария, фактуального и экспрессивного одновременно, рассчитанного на интенцию читателя: Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священны, для меня же каждый год и даже каждое время года тех лет явлен – лицом: 1917 год – Павлик А., зима 1918 года – Юрий З., весна 1919 года – Сонечка… Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки… Моя последняя посмертная верность (с. 31). Внутри текста реализуется разнонаправленное движение между «Я – здесь – сейчас» (время повествования) и «Я1 – там – тогда» (время излагаемого), что подчеркивает сам автор-повествователь: Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми. И те и другие свободно ходят между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном (с. 207). Перволичное повествование обусловливает эксплицитность средств, позволяющих читателю реконструировать как ось времени, соответствующую истории, так и скачки на этой оси, организующие повествовательный дисконтинуум.
Обратимся к дебюту текста, включающему два первых абзаца: Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было – обратное бледности, а все-таки она была – pourtant rose (все-таки розовой), и это своеместно будет доказано и показано.
Была зима 1918–1919 года, пока еще зима 1918 года, декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом зале, на полной сцене (с. 25).
Инициальное предложение-абзац, начинающееся с «нет», построено по типу «второй реплики» (термин Н.Д. Арутюновой). Роль стимула играет эпиграф, с которым оно вступает в диалог, одновременно эта реплика обращена к адресату – читателю. Не случайно через 10 страниц происходит возвращение к эпиграфу: Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа (с. 35), а вместе с ним возвращение ко времени повествования (1) – 1937 году: Сонечка, пишу тебе на Океане <…> – Пишу тебе на океане, на котором ты никогда не была и не будешь (с. 36). Первое предложение диалогично и по отношению к заглавию, поскольку в нем используется анафорическое местоимение «она» (Сонечка), нехарактерное для интродуктивной (первичной) номинации. Одновременно конец предложения проспективен и обращен к последующему повествованию. Начальный абзац выполняет, как представляется, прежде всего контактоустанавливающую (фатичес-кую) функцию и обращен к читателю. Уже в дебюте заявлена жанровая ассоциативно-рефлективная основа автобиогафической прозы, заметим также, что речь идет не только о внутренней рефлексии, но и о рефлексии, направленной вовне, на читателя, включенного в структуру модели повествования.
Второй абзац дебюта подчеркнуто фак-туален, он начинается бытийным предложением, в котором время события указано очень точно (в отличие от его локализации – «в каком-то театре, на какой-то сцене», что связано, с семантикой припоминания, естественной для воспоминаний), поскольку оно служит точкой отсчета в той истории, которая излагается в тексте. С этого момента автор-рассказчик («Я») превращается в рассказчика-персонажа («Я1»). Ретроспективнопроспективный план повествования эксплицирован автором в одном из метатекстовых комментариев: Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера – корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история – с очень долгой доисторией. И поисторией (с. 26). «Доистория» – это (I) конец октября 1917 года, вагон, в котором рассказчик едет в Крым и слышит стихи Павлика А. (их читает его друг), (II) возвращение из Крыма в Москву, знакомство с Павликом А. и Юрой З., (III) создание пьесы «Метель», (IV) чтение пьесы на сцене студии, (V) 1919 г., базисное время «Я1» – дружба с Сонечкой. Однако в повествовании этот реаль-ныый порядок событий (история) не сохраняется, образуя скачки на оси времени по отношению к базисному времени: IV – (вставной эпизод, связанный с Верой З., в котором реализованы и ретроспективный скачок в гимназические годы – 1909 г., и проспективный скачок в 1927 г.) – I – II – III – возвращение к IV – V. Такие скачки, характеризующие все повествование в целом, позволяют вести речь о дисконтинууме нарратива. Приведем еще один пример – сюжет с дарением кораллов, датированный 1919-м годом: С этих кораллов началось прощание… (Пропущено несколько абзацев.) Может быть – не подари я Сонечке кораллов… (Через пробел, 1934 г.) Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Bac, где-то в угловой... витрине антиквара – я их увидела. Это был удар – прямо в сердце... (Через интервал возвращение в 1919 год.) Вслед за кораллами потекли платья, фаевое и атласное (с. 161–163).
Иногда время события устанавливается ассоциативно на основе прецедентной ситуации, имени. Так, дата смерти Сонечки уточняется, ассоциируясь с возвращением челюскинцев: «Когда прилетели челюскинцы…» Значит – летом 1934 года. Значит – не год назад, а целых три <…> (Через пробел) «Когда прилетели челюскинцы» – это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»… явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение – точного часа и даты? (С нового абзаца) Ведь и начало наше с нею не – такого-то числа, а «в пору первых зеленых листиков…» (с. 214). Отметим, что завершается абзац автоцитатой, отсылающей к началу текста, где обозначено время знакомства с Сонечкой (с. 42), и композиционно закольцовывающей текст. Следует сказать, что дисконтинуум может быть связан с повторами («напоминаниями», «повествовательной миграцией», «отложенной интерпретацией», по терминологии Ж. Женетта) [8, с. 89– 92]. В «Повести о Сонечке» есть мигрирующий эпизод, к которому не раз возвращается автор-рассказчик:
Был октябрь 1917 года. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи… Юнкер, гордящийся, что у него товарищ – поэт. Боевой юнкер, пять дней дравшийся…
Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти, Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
Твои глаза… (с. 27).
К этому сюжету из I части «Павлик и Юра» автор дважды возвращается во второй части «Володя»:
-
1. (1937 г.) ...Блаженная весна, которой нет на свете...
-
2. (1937 г.) Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти...
Так и сказались на нас, троих (автор, Сонечка, Володя. – Р. С. ) , стихи Павлика, когда-то – уже вечность назад! – услышанные мною в темном вагоне – от уже давно убитого и зарытого:
Блаженная весна – которой нет на свете!
Которую несут – Моцарт или Россети...
Игрушка – болтовня – цветок – анахронизм, –
Бесцельная весна – чье имя – Романтизм (с. 158) .
Первое, что я о ней услышала, было: костер, и последнее: костер.
Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика:
...Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть –
Твои глаза...
– Ведь Инфанту – жгли, а Карлик – глядел: на нее, вечно-молодую, сжигаемую, несгораемую – поседевший, поумневший Карлик Инфанты! (с. 215)
Очевидно, что от эпизода к эпизоду возрастает значимость прошлого события, стано- вятся более глубокими возможности его интерпретации, ретроспективное «напоминание» выполняет интегрирующие функции.
Значительную роль в реализации дисконтинуума играют вставные истории – фрагменты из записей Али, дочери М. Цветаевой, относящиеся к весне 1919 года (с. 89–91), записанный Алей рассказ подруги Сонечки (с. 212–214), ассоциативно связанные с героиней фрагменты из произведений французских авторов на языке оригинала (с. 36–38, 153– 154). Следует констатировать, что проспективно-ретроспективные скачки на оси времени обусловливают композиционно-синтаксическое своеобразие текста, которое отметила сама М. Цветаева в одном из метатексто-вых комментариев: Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь – выше художества (с. 73).
Рефлексия, естественная для повествования с двумя типами «Я» – интерпретирующим и интерпретируемым, предполагает специфику в композициионно-синтаксической организации текста. Композиционно текст представлен двумя частями: «Павлик и Юра» и «Володя». Каждая из частей делится на фрагменты, разные по объему (от одного предложения до нескольких страниц), отделенные друг от друга пробелом и чертой. В такой прозе, по наблюдениям Н.Д. Арутюновой, происходит «разрушение синтагматической иерархии», использование несинтагматических средств связности. Она синкопирует, нарочито раздвигает зазоры в повествовании, дезинтегрирует предложение, в результате чего создается «эффект коммуникативной равнозначности каждого звена, каждого парцел-лята» [2, с. 186]. Приведем примеры:
Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москве-реке, окруженное пустырями – просторами.
В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно после всех слез и записочек – засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых…
К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косого забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк...» (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще – такими буквами!)
Стоит дом. В доме – кресло. В кресле – Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива. (Еще немножко – зальет.) Ножки спрыгивают, ручки – навстречу:
– Марина! Какое счастье! (с. 56–57)
Синтаксис фрагмента (особенно 1-го и 4-го абзацев), откровенно членящий, дробящий, «подчеркивает “неслиянность” каждого мазка, значимость которого резко расширяется» [2, с. 186]. Синекдоха становится основным способом построения текста: из кусочков, деталей проступает, угадывается целое. Кресло становится интегрирующим образом. Этому не противоречит синтаксис 3-го абзаца, состоящего из одного многочленного бессоюзного предложения с анафорическим повтором, построенного по принципу антипарцелляции (термин Б. Шварцкопфа), напротив, еще более подчеркивается динамическая структура повествования. В дискретности прозы воплощаются дискретность памяти и избирательность воспоминаний.
Нельзя не сказать об особой функции тире, которое характерно для «рубленого» синтаксиса в целом и отличает идиостиль М. Цветаевой, а в анализируемом тексте-дисконтинууме является еще и знаком скачка на оси времени, при этом пропущенный временной интервал точно фиксируется автором («Я») по отношению к базисному времени истории – весне 1919 г.: Теперь – длинное тире. Тире – длиной в три тысячи верст и в семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней. Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевюскому парку – Observatoire ... (Через два пробела.) Еще тире – и еще подлиннее: в целых десять лет. 14-е мая 1937 года, пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, ныне двенадцатилетним, к нашему метро Mairie d’Issy ... (Через пробел.) Маленькое тире – только всего в один день: (Новый абзац.)
15-е мая 1937 года, суббота. Письмо из России – авионом – тяжелое. Открываю и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй – и уже знаю (с. 208–211). Сегментированный текст нарушает автоматизм (континуальность) восприятия, в нем явственно реализуется эффект «остра-нения», когда обычное приобретает черты неожиданного, вновь увиденного.
Подведем некоторые итоги. Автобиографический жанр задает реинтерпрета-ционный характер прозы, что выражается в наличии «Я» – интерпретирующего и «Я1» – интерпретируемого, а следовательно, двух дейктических рамок и двух точек отсчета (базисного времени) на временной оси, что приводит к ретроспективно-проспективной смене пластов повествования. Перволичный характер нарратива позволяет эксплицировать средства организации повествовательного дисконтинуума: мета-текстовые комментарии, в том числе о замысле произведения; повествовательная миграция эпизодов; вставные истории, дневники, письма, прецедентные тексты. Отмеченные свойства текста обусловливают его композиционно-синтаксические особенности – подчеркнутую сегментирован-ность, фрагментарность как на уровне объемно-прагматического, так и контекстно-вариативного членения.
В «Повести о Сонечке» М.И. Цветаевой из внешней хаотичности (она сродни хаотичности движения молекул) рождается, однако, строго организованная структура, динамическая по своей природе, ориентированная на синтез в читательском восприятии. Можно сказать, что «деятельность художника нарушает временную последовательность объекта. Она оставляет след, переносящий нашу временную дисимметрию во временную дисимметрию объекта. Из обратимого, почти циклического шума, в котором мы живем, возникает музыка, одновременно и стохастическая, и ориентированная во времени» [9, c. 384].
Список литературы Дисконтинуум как свойство автобиографической прозы
- Арутюнова, Н. Д. Время: модели и метафоры/Н. Д. Арутюнова//Логический анализ языка. Язык и время/отв. ред. Н. Д. Арутюнова,Т. Е. Янко. -М.: Индрик, 1997. -С. 51-61.
- Арутюнова, Н. Д. О синтаксических разновидностях прозы/Н. Д. Арутюнова//Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 73/отв.ред. И. Р. Гальперин. -М., 1973. -С. 183-189.
- Атарова, К. Н. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной прозе/К. Н. Атарова, Г. А. Лесскис//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. -1976. -Т. 35, № 4. -С. 343-356.
- Брускова, Н. В. Категории ретроспекции и проспекции в художественном тексте (на материале немецкого языка): дис.... канд. филол. наук/Н. В. Брускова. -М., 1983. -220 с.
- Винокур, Г. О. Биография и культура/Г. О. Винокур//Винокур, Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение/Г. О. Винокур; отв. ред. Н. Н. Розанова. -М.: Рус. словари, 1997. -С. 15-88.
- Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/И. Р. Гальперин; отв. ред. Ю. С. Степанов. -М.: КомКнига, 2007. -144 с.
- Грюбель, Р. Воспоминание и повторение. Две модели повествования на примере повестей «Первая любовь» Тургенева и «Вымысел» Гиппиус/Р. Грюбель//Русская новелла: Проблемы истории и теории: сб. ст./под ред. В. М. Марковича, B.Шмида. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. -C.171-195.
- Женетт, Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 2/Ж. Женетт; под общ. ред. С. Зенкина. -М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. -472 с.
- Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой/И. Пригожин, И. Стенгерс; под общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Сачкова. -М.: Прогресс, 1986. -432 с.
- Словарь русского языка: в 4 т./под ред. А. П. Евгеньевой. -Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: Рус. яз., 1983.
- Смулаковская, Р. Л. Конвенциональное и индивидуальное в жанре мемуаров/Р. Л. Смулаковская//Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 10/под ред. М. П. Котюровой. -Пермь: Перм. гос. ун-т, 2006. -С. 185-197.
- Цветаева, М. И. Повесть о Сонечке/М. И. Цветаева//Цветаева, М. И. Повесть о Сонечке: сб./предисл. И. Кудровой. -СПб.: Азбука, 2000. -С. 23-216.