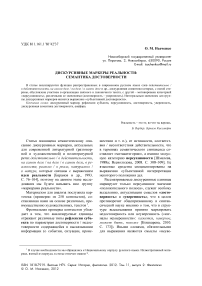Дискурсивные маркеры реальности: семантика достоверности
Автор: Исаченко Оксана Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются функции распространенных в современном русском языке слов действительно / в действительности, на самом деле / на деле / в самом деле и др., дискурсивная семантика которых, с одной стороны, обусловлена участием в организации связного и лаконичного текста, с другой - мотивирована категорией «персуазивность», различными ее значениями (достоверность - уверенность). Интегральным значением для группы дискурсивных маркеров является выражение «субъективной достоверности».
Дискурсивный маркер, рефлексия субъекта, персуазивность, достоверность, уверенность, дискурсивная семантика достоверности, анафора
Короткий адрес: https://sciup.org/14737742
IDR: 14737742 | УДК: 811.161.1'81'42'37
Текст научной статьи Дискурсивные маркеры реальности: семантика достоверности
Статья посвящена семантическому описанию дискурсивных маркеров, актуальных для современной литературной (разговорной и художественной) и нелитературной речи: действительно / в действительности , на самом деле / на деле / в самом деле , в реальности ; реально / в реале , натурально / в натуре , которые связаны с выражением идеи реальности [Баранов и др., 1993. С. 76-104], поэтому на данном этапе исследования мы будем называть всю группу «маркерами реальности».
Материалом для анализа послужила картотека (примерно из 250 контекстов), составленная нами на основе различных, преимущественно художественных, текстов 1.
Фронтальная проверка контекстов убеждает в том, что анализируемые единицы отражают различные типы рефлексии субъекта по параметрам достоверности / недостоверности содержащейся в высказывании информации (о событии, ситуации, проис-
Реальность - это то, во что ты веришь.
Б. Вербер. Зеркало Кассандры шествии и т. п.), ее истинности, соответствия / несоответствия действительности, что в терминах семантического синтаксиса составляет «метакатегорию», а именно модус-ную категорию персуазивности [Шмелева, 1988а; Всеволодова, 2008. С. 308-309]. Ее языковые средства специализированы на выражении субъективной интерпретации некоторого положения дел.
Рассматриваемые дискурсивные единицы маркируют только персуазивное значение «положительного полюса», служат особому выделению, актуализации смыслов «достоверность» и «уверенность», что в целом противоречит общепризнанному в синтаксической науке мнению о том, что в структуре высказывания принято маркировать недостоверность или неуверенность («сигналы неуверенности»: кажется, наверное, может быть, похоже [Кошкарева, 2010. С. 173]). Иными словами, обязательными для выражения являются смыслы «неуве- ренность в достоверности» и «уверенность в недостоверности» сообщаемого [Всеволодова, 2000. С. 308]. Напротив, «уверенность в достоверности информации в обычных условиях не выражается» [Там же].
Многокомпонентность состава группы функциональных синонимов, связанных с выражением идеи реальности и достоверности 2, их частотность (так, по данным НКРЯ, действительно имеет 49 041 вхождение, в самом деле - 15 008, на самом деле -13 272) 3 свидетельствует об обратном: вопреки здравой синтаксической логике и законам целесообразности, данные дискурсивные маркеры чрезвычайно востребованы в современной русской речи.
Анализ контекстов показывает, что единицы данной микросистемы либо выражают собственно значение достоверности , реальности , либо являются результатом контаминации двух персуазивных смыслов – выражают уверенность говорящего в реальности некоторого положения дел, назовем такое употребление «уверенной достоверностью». Например:
-
(1) В этом смысле советский лозунг «Все лучшее - детям!» вполне соответствовал действительности . Детям и в самом деле достались лучшие писатели и художники, создавшие лучшие из советских книг - детские (С. Иванова. «Я думал, я один такой…» // Знамя, 2001, № 8). Соположение в контексте однокоренных слов ( действительно , в самом деле ) не является ни избыточным, ни тавтологичным. И причина не только в де-семантизации существительного дело в со-
- ставе дискурсивного маркера 4. Использованные в данном контексте средства служат дифференциации «источников» достоверной информации, что обусловливает их различное положение в модус-диктумных структурах. В первом предложении утверждение о достоверном содержании советского лозунга скорее соотносится с общеизвестными и общепризнанными фактами. Оно выражено лексическими средствами – вполне соответствовал действительности - и формирует диктум. Во втором предложении диктумная часть детям достались лучшие писатели... осложняется модусом субъективной оценки, личной интерпретации достоверности. Когда автор говорит и в самом деле, он заверяет читателя в том, что, по его мнению, хорошо известный лозунг – не резонерство и не идеологическая риторика, а реальное положение дел, что так все и было: все лучшее доставалось детям, делалось для них, им предназначалось. Здесь в самом деле является сигналом уверенности автора в реальной содержательности советского слогана и его желании убедить в эффекте «обманутого ожидания» и читателя, который привык не доверять рекламной и тем более идеологической риторике.
-
(2) Я впервые испытал это удивительное чувство, о котором столько наврано , -мужскую дружбу. Для нее на самом деле много не нужно (М. Шишкин. Письмовник). И в этом контексте на самом деле совмещает значение достоверности и уверенности, при этом уверенность является следствием положительного жизненного опыта (человека, который не понаслышке знает о мужской дружбе), достоверность, т. е. модальность реального существования, актуализируется
на основе пресуппозиции: о мужской дружбе наврано много , а в реальности – на самом деле – положение дел иное.
-
(3) Кто-то считает , что ребенку в утробе матери уютно и спокойно, на самом же деле он постоянно борется за выживание с момента зачатия до рождения (И. Кисельгоф. Необязательные отношения). Здесь индивидуальное восприятие, которое базируется, как выяснилось, на профессиональном знании 5, «перечеркивает», вытесняет расхожее мнение ( кто-то считает ) из области наивной медицины. С помощью маркера на самом деле и противительного союза же актуализировано несогласие с суждением ребенку в утробе матери… спокойно и заявлено противоположное, в котором говорящий уверен: [ ребенок ]… борется за выживание .
Уточнений требуют и коммуникативные условия, в которых появление маркеров реальности предсказуемо и обязательно: «эксплицитное выражение уверенности появляется в ситуациях дискуссии, спора, при необходимости воздействовать на слушателя» [Всеволодова, 2000. С. 308], «навязать свою точку зрения» [Шмелева, 1988б. С. 37]. К сожалению, контекстов, полностью удовлетворяющих заявленным коммуникативным условиям (диалог / спор, противоположность исходных мнений / точек зрения, функция убеждения), мы не обнаружили, проверив большое количество контекстов (собственную картотеку и устный подкорпус из НКРЯ). По наши наблюдениям, микродиалоги, одна из реплик которых включает маркер реальности, демонстрируют не конфронтацию, а, напротив, кооперацию собеседников, например:
-
(4) – В общем… я голосую / что пацан не виноват. Запишите.
– Да. Вы знаете / на самом деле это очень убедительно. Я тоже согласен / мальчик не виновен (х/ф «Двенадцать»*) – на самом деле осложняет «формулу согласия» с оппонентом и осознанный выбор тактики кооперации с ним ( я тоже согласен… ) на основе убедительных доказательств, в которых говорящий (один из 12 присяжных)
уверился и теперь убежден в правильности своей позиции.
Отметим, что кооперация собеседников и реализация персуазивных значений достоверности и уверенности возможна даже в случае общего конфликтного содержания диалога, например:
-
(5) – Тогда уж знайте – все пойдет всерьез, – опустив глаза, проговорил Хмелев. – Если вы с ними – мы враги .
– Если для вас важней, с кем мы, а не кто мы, – мы действительно враги , – также потупившись, отвечал Борисов (Д. Быков. Орфография).
Инициальная реплика отвечает канонам речевого императивного жанра «шантаж» ( Если вы с ними – мы враги ), цель которого – заставить собеседника изменить стратегию поведения, пойти на компромисс. Ответ является косвенной формой отказа выполнить, по сути, провокативное условие; в нем звучит упрек в отсутствии взаимопонимания ( Если для вас важней… ). Парадокс данного диалога заключается в конфликте точек зрения, идеологического несогласия коммуникантов и кооперации словесных формулировок: на условие собеседник реагирует другим условием, на предложение быть врагами – уверенным согласием мы действительно враги 6.
-
(6) – А он и в самом деле писатель?
– Кто вам об этом сказал?
– Он сам… (Ю. Поляков. Козленок в молоке). Первая вопросительная реплика – это запрос, обращенный к третьему лицу, на подтверждение информации, полученной непосредственно от первого лица ( Он писатель? ), в котором маркер персуазивности актуализирует прежде всего сомнение говорящего в достоверности факта, который требует верификации именно в рематической части. В самом деле , будучи маркером персуазивного значения достоверности, является и средством актуального членения предложения, выделения ремы.
Отметим, что для художественного текста более характерным является использование маркеров реальности в контекстах другого типа, которые если и можно считать «дискуссией», то лишь условно, метафорически. Как правило, возникновение языковых средств персуазивности провоцируется в ситуациях «диалога-спора»: автора или персонажа с самим собой (в настоящем или прошлом), автора с персонажем, а также автора с потенциальным читателем или другим умозрительным собеседником. И служат эти маркеры сигналом «перевода» из «речевого регистра» одного собеседника как источника информации в регистр другого. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих различные типы «взаимных оппозиций».
-
(7) Внутренний цензор, о котором так любят рассуждать господа литераторы, на самом деле не является их собственностью. Он сидит в каждом из нас (А. Жи-тинский. Потерянный дом или Разговоры с Милордом): в качестве делиберативного объекта выступает внутренний цензор , субъектами мнения являются обобщенное лицо ( господа литераторы ) и автор, при этом их точки зрения не сходятся. Говорящий отрицает достоверность того, что внутренний цензор – это собственность литераторов, уверен в том, что внутренний цензор – это собственность любого человека.
-
(8) Массовая литература - это плацебо. Люди думают, что получают что-то в организм , а на самом деле - это иллюзия одна, обман, ничего больше (Н. Соколовская. Литературная рабыня): автор, будучи лицом посвященным в «таинства» массовой литературы (о чем свидетельствует название романа и общепризнанный факт его автобиографичности), авторитетно и уверенно опровергает всеобщее людское заблуждение о ценности и полезности массовой литературы. Разоблачение коллективного обмана реализуется дважды: в первом предложении в форме утверждения ( это плацебо ), во втором предложении – в форме заверения ( а на самом деле иллюзия, обман ).
-
(9) Она опять уселась на перила: «А что такое - дружить, Акси-Вакси? .„Что делают девочки и мальчики, когда дружат?»
Он опешил. В натуре, что они будут делать? Коньков у него нет. Лыжи - две плоские доски без креплений. Плавать боюсь в силу определенных обстоятельств. О родителях говорить стыжусь... (В. Аксенов Ленд-Лизовские. Lend-leasing): в данном контексте одна из диалоговых реплик внешней речи «переходит», сигналом чего выступает жаргонное в натуре, в регистр внутренней речи персонажа, постепенно углубляясь, о чем свидетельствует замена форм 3 л. они, у него глагольными формами 1 л. боюсь, стыжусь. Банальный, по-детски непосредственный вопрос девочки (правда, по-взрослому, даже по-преподавательски методично сформулированный дважды, для доходчивости) поставил «инициатора дружбы» в тупик. При умозрительной проекции из области грёз в реальную плоскость (в натуре) получилось, что дружить Акси-Вакси с этой девочкой «совершенно не о чем» 7.
Сложность данного контекста состоит в двойной 8 корреляции, которая осуществляется с помощью маркера в натуре : внешней речи с внутренней, слов и фраз детского лексикона (в данном случае стандартной формулы приглашения к дружбе) с реальными действиями, которые предполагаются в случае согласия дружить.
-
(10) - Поехали домой - жрать хочется, сил нет! - взмолился Витек.
- Через двадцать минут будем дома! - самоуверенно пообещал я. На самом деле я, конечно, так не думал и даже побаивался, что нас возьмут прямо в Останкино (Ю. Поляков. Козленок в молоке). В отличие от предыдущего контекста, в данном случае внешняя и внутренняя речь «моно-субъектны». На самом деле также маркирует их «переключение», но другой разновидности: в левом контексте самоуверенный тон, восторженная интонация и оптимистический прогноз, а в правом – опасение, неверие в благополучный исход дела. На самом деле является «разделителем» процессов речи и мысли: персонаж говорит одно, а думает другое. Именно «внутренние»,
скрытые от других, мысли, отличные от лживых слов, представлены как соответствующие действительности, реальные. Уверенность в их достоверности вербализована «категоричным» вводно-модальным словом конечно .
-
(11) [ ...роман посвящен нашей литературной среде и в нем действуют под своими настоящими именами многие видные писатели, даже ваш покорный слуга ! Помните, там описывается пузатый комсорг, робко семенящий следом за секретарем парткома? Так вот, автор имеет в виду непосредственно меня, ибо в те времена комсомольскую писательскую организацию возглавлял именно я . ] Стыдно признаться, но это правда: от сидячего образа жизни и неразумного питания я тогда в самом деле обзавелся совершенно неприличным животом (Ю. Поляков. Козленок в молоке). Сложный модусный рисунок данного текста определяется комплексом различных средств верификации сообщения 9. В частности, в последнем предложении вводно-модальное сочетание стыдно признаться и сущ. правда «работают» на категорию достоверности: раньше стыдился, а сейчас признаюсь (ср. признаться ‘открыто объявить о чем-л., сознаться в чем-л.’), т. е. скажу правду о том, как было в реальности. В самом деле не только усиливает смысл ‘действительно, реально, правдиво’, но и подчеркивает осознанность отказа от собственных заблуждений по поводу своей внешности, нынешней уверенности в том, что тогда выглядел неприлично и был пузатым комсоргом . По прошествии времени человек не питает иллюзий, более критично и трезво относится к себе в прошлом.
Сопоставление контекстов с маркерами в самом деле и на самом деле доказывает, что это паронимические единицы 10, различаю- щиеся не только семантикой, но и привычными контекстными и жанровыми формами употребления (в том числе союзным окружением). На самом деле, обычно в сочетании с противительными союзами а, но, же, используется в роли сигнала замещения предыдущего высказывания (или его фрагмента) как неверного, неистинного (иными словами, отрицание пропозиции – событийной или логической – на том основании, что она не соответствует реальному положению дел). Ср.: Гуманист добр только на словах, а на самом деле [а в самом деле] насквозь фальшив и желает лишь покрасоваться (Б. Акунин. Весь мир театр); Пришел мальчик из школы и сказал: «Мама, меня в школе зовут апостолом». На самом деле [в самом деле] его называли остолопом. Ребенок спутал, и это простительно. Но мать долго хвасталась небесным рангом сына (В. Ардов. Цветочки, ягодки и пр.). Как видим, замена в таких контекстах на маркер в самом деле невозможна.
В самом деле , напротив, часто маркирует различные речевые формулы заверения, подтверждения или согласия 11:
-
(12) «.Пусть другие эту чертову нефть ищут!» - «Другие. А жить на что будем?» - сонно спрашивала она. «Суперменка ты моя!» - ласково целовал он ее в ухо. Зарабатывала она в самом деле очень прилично (Ю. Поляков. Козленок в молоке). Маркер на самом деле здесь возможен, но его появление как будто меняет «вектор» высказанного согласия: в самом деле - не выводит признание правоты из личной сферы говорящего, в то время как на самом деле – делает его «публичным», более уместным в доверительном разговоре с кем-то третьим.
Именно усиление семантики достоверности, а не провозглашение достоверности через отрицание (как в случае с маркерами: а на самом деле , а на деле , а в действительности ), обусловливает частое взаимодействие с соединительными или присоединительными союзами и , да и :
-
(13) Искал прибежища у мамы, она говорила: «Потерпи! Видишь, время какое». Время и в самом деле было тревожное. Война (И. Грекова. Фазан).
Изофункциональными такой семантике маркера является его использование в речевых жанрах кооперативного, заинтересованного взаимодействия с коммуникантом, например, «увещевание», «убеждение» (в том числе самого себя), «уговоры», например:
- А чего торопиться? Ты человек свободный, неженатый.
- Работать завтра с утра <„>.
- Оставайся, — вдруг тихо произнесла, почти прошептала Рената <„> - В самом деле , - сказала Рената. - Дом у меня большой, места много. Поживи по месту работы. И тебе удобно „ И мне будет, с кем поговорить (А. Слаповский. Синдром Феникса).
Уговоры и убеждения могут быть направлены на самого себя как «оппонента»:
-
(14) „.Майка упросила его этого не делать:
- Разве вы мне не доверяете?
Он, конечно, ей доверял. К тому же у Варвары Владиславовны не было телефона, а ездить к ней специально за справками было бы далеко и неудобно. « В самом деле , пусть девочка учится спокойно, - решил Энэн, - я ли оскорблю ее докучной опекой?» (И. Грекова. Кафедра).
Многочисленные примеры убеждают в том, что достоверность выявляется либо с помощью отрицания (исходного / общеизвестного факта, коллективного или индивидуального заблуждения, первого впечатления и пр.), либо на основе подтверждения како-го-л. положения дел. Это означает, что семантика достоверности предполагает апелляцию к предыдущему контексту (в широком понимании), пресуппозиции. Именно поэтому рассматриваемые единицы можно считать принадлежностью корпуса средств и приемов, обеспечивающих связность текста, т. е. анализировать их как периферийные анафорические единицы. Приведем примеры.
-
(15) - Каменный век какой-то! - хмыкнула Ирка. - Легенды старого Питера [реакция негодования молодой мамаши на совет заслуженного педиатра - сделать младенцу экологически чистую подушку - из мочалки].
Педиатр Елизавета Григорьевна „ в самом деле была в Петербурге личностью легендарной . Даже и не в Петербурге еще -она была известна всему Ленинграду с пятидесятых годов... (А. Берсенева. Рената
Флори). - Помимо лексических повторов и синонимических замен, сцепление авторского текста и персонажной реплики обеспечивается маркером в самом деле .
-
(16) Актеры не похожи на обычных людей . То есть именно что похожи , но на самом деле [это не так] , возможно, некий особенный подвид homo sapiens , обладающий своими специфическими повадками (Б. Акунин. Весь мир театр). Местоименная анафора, в каноническом виде, здесь редуцирована, равно как и вербализованное, прямое отрицание реальности сообщаемого факта (ср.: Актеры похожи на обычных людей, но это не так / но это не соответствует действительности ). Использование дискурсивного комплекса но на самом деле в целом актуализирует утверждение (а не отрицание) более точной, с точки зрения говорящего, квалификации актеров через поиск более адекватных речевых формулировок.
Все сказанное позволяет сделать предварительные выводы о различных типах достоверности, которые выражаются с помощью рассматриваемых в статье дискурсивных маркеров ( на самом деле , действительно / в действительности , в реальности / реально и пр.), которые, по-видимому, имеют пересекающиеся и непересекающие-ся области функционирования. Но для проверки этого предположения необходимо провести отдельное исследование. Здесь мы ограничимся только перечислением семантических типов достоверности.
-
1. Достоверность факта - отношение событийной пропозиции к реальности, противопоставленной различным мнимым мирам (незнанию, наивным представлениям 12,
-
2. Достоверность сообщения о факте -выражение внутренней убежденности, уверенности говорящего в том, что его слова истинны 14: - . Я живу совсем в другом ми-
- ре. Он очень обыкновенный, мой мир. Он просто обыденный, и я это прекрасно понимаю. - Обыденность своей жизни Рената в самом деле сознавала ясно. (А. Берсенева. Рената Флори); Он был уверен также, что почти всякий самоубийца в последний момент жалеет о своем решении. Самоубийство оправдано только тогда, когда жить дальше в самом деле нельзя -нельзя по определению: непрерывная пытка, позор, слабоумие (Д. Быков. Орфография).
-
3. Частный случай семантики достоверности - достоверность языковой формы сообщения о факте, оценочная интерпретация ее корректности / некорректности, например: Со временем она убедилась: национальность - такая же условность, как возраст. На самом деле , обнаружила Инка, люди образуют своими повадками разные племена (Улья Нова. Инка); Их иронически называли «подмаксимками »... И они [молодые литераторы, в том числе Куприн] в самом деле подражали Горькому во всем -в манере носить усы, длинные волосы, широкие шляпы, в резкости и подчеркнутой грубоватости манер, даже в волжском оканье, которое и у Горького смотрелось довольно искусственно (Д. Быков. Был ли Горький?); Праздновалось семидесятипятилетие со дня основания института . На самом деле семьдесят пять лет назад был основан не этот институт, другой, но этот по праву считался его преемником (И. Грекова. Кафедра).
фантазии, воображению, сну, заблуждению, обману, самообману, иллюзии и пр.): Зина заблаговременно перешла на надомную работу [ждала ребенка] , освоила вязальную машину, поскольку родни у неё не было, а про хорошую соседку это было только красное словцо , на самом деле она не могла ни на кого положиться . (Л. Петрушевская. Песни восточных славян); Я хорохорюсь , а на самом деле без тебя, без твоих писем я бы давно уже если не сдох, то перестал быть самим собо й ... (М. Шишкин. Письмовник); Имя такое [ Канитель Сидорович ] ему в поселке дали люди. Не припомнить сейчас, кто первый его так назвал. А на самом деле звали его Павлом , да только никто его так не звал, и он на это не обижался (В. Голявкин. Красные качели).
С учетом специфики данной группы маркеров следует говорить о достоверности нового факта , отвечающего реализации определенного сценария: ситуация P (воображаемая, придуманная, ложная, идеологически заданная и т. п.) при уточнении / коррекции (любой процедуры верификации, выполненной субъектом, т. е. являющейся результатом рефлексии субъекта 13) оказывается ситуацией Q : Может ли быть предел человеческим мучениям?. Мы оправдываем себя тем, что желаем конца мучений ему . Это ложь , на самом деле мы желаем конца мучений себе . (И. Грекова. Вдовий пароход); Ефима и Мирона называют братьями Черепановыми, но они на самом деле отец и сын , слышали про это? (О. Славникова. Сестры Черепановы).
Именно пристальное внимание говорящего к языковой форме позволяет ему увидеть за стандартной фразой, стершейся метафорой новый смысл и усомниться в корректности привычных формулировок: Как правило, именно такие, о-очень крутые на вид , на деле оказываются всмятку , или, на худой конец, «в мешочек» (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости*); Но ведь это только так говорится: немедленно, а на самом деле надо было как минимум умыться и одеться (В. Белоусова. Второй выстрел*) 15.
уз) эта семантика сохраняется. Ср.: Задача и философия СМИ - критиковать власти, и [ на самом деле = я уверен ] это правильно (пример М. Кронгауза); - Да просто повезло ему! - вдруг услышала она. - Просто [ реально = я уверен ] повезло (А. Берсенева. Рената Флори).
Одни и те же маркеры реальности могут выражать (даже в структуре одного предложения) разные типы достоверности, например: Иногда женщины бывают ужасно глупы и считают, что ребенок – вот это уж на самом деле что-то, принадлежащее только ей. Забывая о том, что это «что-то» на самом деле «кто-то». Кто-то, кто чувствует иначе, думает по-другому, отличается от нее характером и цветом глаз … (Т. Соломатина. Акушер-Ха!) – в первом случае этот маркер персуазивности встроен в косвенную цитату – расхожее убеждение женщин по поводу безусловной принадлежности ребенка матери (достоверность сообщения о факте), на него накладывается «авторский» модус – рефлексия Т. Соломатиной по поводу самой формулировки – некорректного выбора неодушевленного местоимения что-то по отношению к ребенку (достоверность языковой формы).
* * *
Предпринятая попытка описания небольшой группы дискурсивных слов доказывает объективную сложность описания «маленьких» и, на первый взгляд, простых русских слов. Не будет преувеличением назвать их «речевым феноменом» по причине феноменально широкого круга всевозможных интерпретаций. Эти маленькие слова русской речи, легко доступные для наблюдения, с трудом поддаются «безгрешным» научным описаниям и непротиворечивым определениям и классификациям. Простое перечисление терминов, с помощью которых в разное время и в составе различных системных объединений проводилась идентификация единиц данной группы («модальные слова», «гибридные наречномодальные слова» [Виноградов, 1947. С. 725–735]; частицы, «устанавливающие разнообразные связи и отношения сообщения с его источником, с другими частями сообщения, с другими событиями и фактами» [Русская грамматика, 1982. С. 728]; «дискурсивные слова» [Баранов и др., 1993]; «модальные слова категорической достоверности» [Пляскина, 2001]; «специфические употребления модальных слов» в качестве слов-паразитов [Разлогова, 2003]; «служебные лексемы с корреляционными компонентами» [Петроченко, 2006]; «кон- вдуматься в буквальный смысл этого слова, то выяснится, что в реальности] надо умыться и одеться.
некторы» [Шимидзу, 2007] и др. 16), доказывает их неоднородность и полифункциональность (совмещение функций различной природы).
По нашему мнению, причины неоднозначности интерпретации этих единиц кроются в их ориентированности на субъективную сферу говорящего (его логики оценок и установления связей 17), оформлении мо-дусного (или шире – модального) «яруса» высказывания.
Группа дискурсивных слов: действительно / в действительности , на самом деле / на деле / в самом деле , в реальности ; реально / в реале , натурально / в натуре имеет динамический характер, не только по причине изменения показателей частоты употребления ее единиц, но и благодаря «открытым» границам (ср., например, употребление десемантизированных прилагательных сущий , настоящий , реальный , истинный , подлинный ).
Проведенный анализ показал, что, выражая различные семантические значения достоверности и передавая лексико-грамматические значения персуазивности, данные единицы призваны маркировать приоритет позиции интерпретатора в констатации некоторого положения дел в языковой или внеязыковой реальности, по сути, субъективный выбор и автоматически «авторизация» 18 одного из вариантов определения происходящего. Это позволяет выделять их как группу маркеров «субъективной достоверности», или, точнее, но пространнее – субъективного и уверенного восприятия реальности как достоверной. А это означает, что мир сложнее и многомернее, чем мы о нем говорим. Наверное, именно это и имел в виду С. Ежи Лец, говоря: «В действительности все совсем не так, как на самом деле».
DISCURSIVE MARKERS OF REALITY: SEMANTICS OF CERTAINTY
The following article analyzes the functions of the widely used Russian words действительно / в действительности , на самом деле / на деле / в самом делe etc., the discursive semantics of which are determined by their role in the organization of a coherent and logical text, and, secondly, is motivated by the category of persuasiveness and its various meanings (certainty – confidence). The integral meaning of the discursive marker group is the expression of ‘subjective certainty’.