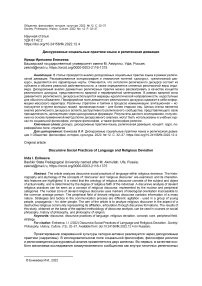Дискурсивные социальные практики языка и религиозная девиация
Автор: Еникеева И.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ дискурсивных социальных практик языка в рамках религиозной девиации. Рассматриваются историография и этимология понятий «дискурс», «религиозный дискурс», выделяются его характерные черты. Отмечается, что онтология религиозного дискурса состоит из субъекта и объекта реальной действительности, а также определяется степенью религиозной веры индивида. Дискурсивный анализ девиантных религиозных практик можно рассматривать в качестве концепта религиозного дискурса, представленного ядерной и периферийной категориями. В рамках ядерной зоны девиантного религиозного дискурса используются маркеры идеологической направленности, недоступные для обычного обывателя. Периферийное поле девиантного религиозного дискурса содержит в себе информацию массового характера. Различны стратегии и тактики в процессе коммуникации: агитационная - используется в группе молодых людей, пропагандистская - для более старших лиц. Целью статьи является анализ религиозного дискурса в аспекте деструктивного религиозного сообщества, представляющего свою принадлежность, артикуляцию через дискурсивные формации. Результаты данного исследования, полученные на основе примененной методологии дискурсивного анализа, могут быть использованы в учебных курсах по социальной философии, истории философии, а также философии религии.
Дискурс, дискурсивные практики языка, религиозная девиация, концепт, ядро, периферийное поле, стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/149142040
IDR: 149142040 | УДК: 81'42:2 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.4
Текст научной статьи Дискурсивные социальные практики языка и религиозная девиация
Башкирский государственный университет имени М. Акмуллы, Уфа, Россия, ,
организаций, так и различного рода сект, деструктивных религиозных групп. Во-вторых, как особый методологический аппарат, используемый для анализа устных и письменных воззрений самих исследователей.
Историографию становления и развития теории дискурса, а также дискурсивного анализа можно рассматривать в параллелях с развитием лингвистики 60–70-х гг. XX века. На первоначальном этапе наблюдалось стремление к выведению синтаксиса за пределы предложения (гиперсинтаксис, макросинтаксис, синтаксис текста), впоследствии разрабатывалась прагматика речи (теория речевых актов), появился подход к исследованию ее с социальной точки зрения (перформатива), повысился интерес к субъективному аспекту речи, а также к ее употреблению. Обнаружилась общая тенденция к интеграции всех существующих гуманитарных исследований в области дискурса.
Одним из первых людей, кто придал научную форму понятию «дискурс», был Э. Бенвенист. В его трактовке оно обозначает речь в общем смысле как текстовое сообщение: «речь, присваиваемая говорящим» (Бенвенист, 1974). Дискурс противопоставлялся Бенвенистом объективному повествованию (recit). В дальнейшем терминологическое развитие понятия выразилось в распространении его значения на другие виды прагматически обусловленной и имеющей свои различия в целеполаганиях и установках речи.
Целью данной статьи является анализ религиозного дискурса в аспекте деструктивного религиозного сообщества, представляющего свою принадлежность, артикуляцию через дискурсивные формации. В качестве методологии исследования выступает дискурсивный анализ, позволяющий изучать структурные характеристики дискурса и влияние дискурсивных факторов на развитие религиозной девиации, что до сих пор представляется неоднозначным в философии религии и социальной философии.
Для понимания сущности и особенностей понятия «религиозный дискурс», прежде всего, необходимо дать ему определение. В дословном переводе с французского «discours» означает «речь». Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас отмечает, что дискурс является связным текстом в совокупности с экстралингвистическими – социокультурными, прагматическими, психологическими и многими другими факторами: текстом, представленным с точки зрения событийного аспекта; речью в виде социального действия с четко определенной целью, а также компонентом всех социальных взаимодействий и когнитивных процессов (Habermas, 1992).
-
Э . Лакло в качестве дискурса понимает артикуляцию социальной принадлежности, в которой «каждый элемент дискурсивно-социального порядка не имеет внешних детерминаций, его место зависит от отношений в дискурсивном комплексе: реляция конституирует социокультурное бытие, которое становится подвижным, зависящим от обстоятельств» (Laclau, Mouffe, 2001).
Исследователь Е.А. Кожемякин отмечает, что содержание религиозного дискурса транслирует «внутреннее напряжение», которое связано с чувственной репрезентацией индивидом религиозно-мистического опыта в процессе коммуникации, понимаемой как чувственное обобщенное выражение предметов и явлений, которые хранятся и воспроизводятся в сознании без непосредственного воздействия на чувства (Кожемякин, 2011).
Активное проявление репрезентации зависит от уровня воображения, которое сформировано у индивида. Значимость его заключается в том, что при помощи него происходит отражение реальной действительности. Продуктом воображения являются несуществующие, выдуманные образы вещей и ситуаций, которые человек не воспринимает. В продуктах воображаемой деятельности, как правило, мысль реализуется определенным чувственным образом. Исходный материал взят из опыта, на основе которого воображение воспроизводит элементы будущего образа объекта и ситуации. В процессе этого могут формироваться представления о таких связях, существах, трансформациях, условиях, которых нет в поле восприятия. Поскольку чувственный образ связан с внешним миром, существует возможность рассматривать эти связи, существа, изменения и ситуации вне сознания (Кожемякин, 2013).
Исследователь считает, что религиозный дискурс можно оценивать с позиции инструмента совершенствования и репрезентации аксиологических, нормативных и догматических основ религиозного знания (Кожемякин, 2013).
Итак, при рассмотрении прямых и косвенных взаимосвязей теории религиозного дискурса следует отметить ее связи, прежде всего, с социологией и психолингвистикой; трансдисциплинарный характер отношений которых направлен на исследование типов коммуникации с целью обоснования речевых действий участников коммуникации. Также отметим, что дискурс, функционирующий в рамках какого-либо общественного института в аспекте определенной совокупности речевых практик и сопутствующих им экстралингвистических факторов, актуальных в конкретном сегменте социокультурного пространства и обладающих рядом специальных характеристик, называется институциональным. Наличие в религиозном дискурсе определенного, четко сформулированного регламента, системы правил, а также апелляция к социокультурным ценностям являются теми факторами, которые позволяют отнести его к числу институциональных (Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации …, 2015).
Границы религиозного дискурса, независимо от его характера, определены: ядерная зона выражена отчетливо, а периферийная – либо незначительна, либо вовсе отсутствует. В религиозном дискурсе сосредоточены тексты различной жанровой направленности. Но единый семантический центр данных текстов – это так называемый сакральный текст, включающий в себя основные концептуальные религиозные положения. Именно он задает направления и является начальной координатой в осуществлении дискурсивных социальных практик (Каплуненко, 2007).
Последние означают такой способ говорения, который принадлежит к определенному дискурсу, рассматривающему его через характерные признаки – лингвистические и стилистические особенности, способы рассуждения и системы убеждения и т. д. В контексте нашего исследования таким набором параметров обладает и религиозный дискурс.
Религиозный язык, как и любой другой, – это знаковая система, каждый элемент которой несет в себе определённое сакральное значение. Она может быть искусственной и естественной. Природа появления естественного языка в религии обусловлена материальными средствами. Неоспоримым преимуществом для приверженцев любой религии является знание языка, на котором написаны ее первоисточники.
Понятие «дискурсивный анализ» впервые ввел в научный обиход в 1952 году исследователь З.З. Харрис. Им были предприняты попытки дальнейшего расширения дистрибутивного метода, используемого ранее только в контексте предложений и распространяемого вначале на весь текст, а уже после – на описание социокультурного контекста (Harris, 1952). С 1950-х годов термин «дискурсивный анализ» в качестве синонима немецкого понятия «Textlinguistik», имеющего схожую семантику, получил распространение в российской науке.
Возвращаясь к исследованию основ и истоков дискурсивной теории, а также методик анализа религиозного дискурса, необходимо отметить, что генезис понятия восходит к лингвистическим исследованиям языкового употребления, социологическому анализу коммуникации, логикосемиотическому описанию текстов различных направлений, французскому постструктурализму и моделированию речевого происхождения в рамках когнитивной психологии, а также этнографическим описаниям коммуникации в рамках антропологических исследований.
Далее дискурсивный анализ получил свое распространение в результате методов, используемых в дисциплинах социологической направленности, в исследованиях драматургической и этнической социологии. Получив другие возможности, метод дискурсивного анализа стали использовать для изучения не только научного, но и разговорного языка в спонтанной ситуации с учетом социальной групповой принадлежности. При этом предметом исследования становились дискурсивные социальные практики в совершенно разных сферах – это могли быть диалоги между руководителем и подчиненным, священником и прихожанином и др. (Карасик, 1999).
К 1970 году дискурсивный анализ был обогащен идеями информатики и когнитивной психологии. Зарождение когнитивной психологии обусловило дальнейшее развитие дискурсивной психологии.
На протяжении 1980-х годов в сфере анализа дискурсивных социальных практик происходит усиление дисциплинарной интеграции – развитие от простого контент-анализа к дискурсивному анализу медиа-текстов, которая постепенно проникает в сферу юриспруденции, используя в качестве предмета своего исследования документы текстуального характера.
С середины 1980-х годов наступает процесс специализации дискурсивного анализа, формируется тенденция к постепенному сужению пространства теории до исследовательских полей этнического, социального, религиозного дискурса и т.д.
Таким образом, рассмотренная эволюция понятия «дискурс», «круговорот смыслов» и их применение позволяют увидеть, что дискурсивный подход открывает широкое поле для исследований, обнаруживая фундаментальные проблемы не на понятийном уровне, а на уровне деятельности, практики, получающей выражение в понятиях, в том числе в религиозной девиации.
Дискурсивный анализ религиозного дискурса заключается не в том, чтобы «вскрыть» онтологическую сущность компонентов религиозной области, а в том, чтобы отследить природу и характер связи, которая возникает между компонентами в процессе речевой деятельности коммуникантов, которые проектируют объекты. Данное требование указывает на то, что дискурсивные социальные практики, принятые и адаптируемые в религиозной сфере, зависят от интериориза-ции объектов идеального мира личности в религиозное мировоззрение. В этом случае прослеживается связь между религиозными переживаниями индивида, которые находят отражение в предметной области религиозного дискурса (Гурин, 2014).
Для последнего характерна виртуальная и психическая предметная область. Продуктом психического вживания индивида в объект религиозной веры становится формирование религиозного сознания, которое состоит из связи мыслей, чувств и эмоций. Ключевым его компонентом выступают религиозные чувства, проявляющиеся как эмоциональное отношение верующих к священным текстам, личностям или предметам.
Любая религия задает определенный тон отношений в обществе и предлагает такую философскую и религиозную основу, на которой выстраивается совместная деятельность последователей веры. Таким образом, она объединяет верующих в определенное общество, формирует идеологическое мировоззрение и убеждает в верности именно своего вероучения. Девиантность в религии обусловлена социальными нормами и представлениями. Если понятие религиозной нормы характеризуется согласованностью бытия человека с божественными принципами, то отклонением от него является религиозная девиация, из которой проистекают всевозможные формы девиантности, включенные в «позитивное» и «негативное» измерение. Религиозную девиацию можно трактовать как комплекс неких практических обрядов, способов привлечения и дальнейшего удержания людей в социальных сообществах, которые являются оппозиционными к «нормальной» религиозности и способны разрушить гармоничное состояние не только отдельно взятой религиозной личности, но и всего мира в целом. Религиозная девиация не только провоцирует трансформацию религиозного сознания верующего, но и меняет мироощущение всего человеческого общества в целом.
По мнению Ю. Хабермаса, девиантность в религии возможно нивелировать через расширение перспектив креативного развития индивида и стимулирования его в сторону когнитивного рационализма посредством этики дискурса (Habermas, 2005).
Онтология религиозного дискурса представлена не только субъектами и объектами реальной действительности, но и степенью религиозной веры, а также имеющимся религиозным опытом.
Между тем фиктивное соблюдение религиозных норм и ритуалов, определенных моделей поведения не способно показать истинные границы и характер дискурсивных социальных практик в религиозном аспекте. Если религиозные нормы и ритуалы не составляют индивидуально-личностный опыт и переживания субъекта, их можно использовать в качестве предмета анализа и мышления (Блувберг, 2007).
Чтобы исследовать особенности дискурсивных религиозных практик, в том числе в аспекте религиозной девиации, следует, прежде всего, остановиться на их закреплении, потому что сам процесс разработки для исследователя носит предположительный характер, а не реально объективный, как в случае анализа религиозных текстов.
Дискурсивный анализ девиантных религиозных практик можно рассматривать в качестве концепта религиозного дискурса, представленного ядерной и периферийной категориями. Ядер-ная зона дискурсивных социальных практик в аспекте религиозной девиации – это системный комплекс знаний, стратегий и тактик коммуникативной организации, которая находится в зависимости от когнитивного и ценностного многообразия, способного обеспечить эффективное существование, к примеру, религиозных текстов экстремистской направленности верующих с девиантным типом мировоззрения в ситуации открытого межличностного взаимоотношения.
Наглядно концепт религиозного дискурса представляет собой категорию, включающую ядерную и периферийную зоны (рис. 1).
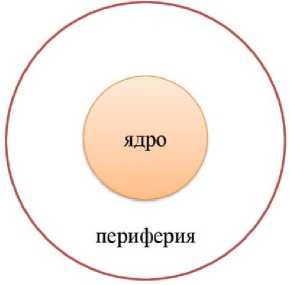
Рисунок 1 – Структура концепта религиозного дискурса
Зона ядра является недоступной для тех индивидов, которые не относятся к членам религиозно-девиантного сообщества, а периферия, напротив, открыта для всех лиц аутгруппы. Ключевая цель последней заключается в активном привлечении внимания к деятельности индивидов, не входящих в состав группы, для их последующей инициализации. Коммуникативные тактики и стратегии, которые служат для достижения обозначенной цели могут быть самыми разными. Выделим две основных стратегии. Первая направлена на изоляцию, когда представители используют зашифрованные символы, которые доступны только избранным. Вторая – характеризуется реализацией речевых тактик с привлечением концептов, имеющих нечеткое ядро и достаточно широкое периферийное поле с насыщенными эмоциональными связями между индивидами (Сидорова, 2016).
В рамках ядерной зоны девиантного религиозного дискурса применяют маркеры идеологической направленности, семантическое значение которых для простого обывателя является скрытым. Они верно понимаются только членами девиантного религиозного дискурса. И напротив, периферийное поле его содержит в себе огромное количество массовой информации, вызывающей интерес всех участников коммуникации. Таким образом, чтобы максимально обратить на себя их внимание, следует использовать такие средства коммуникации, как новостные сводки, актуальные события и т.д.
В качестве ведущего признака коммуникации в сфере девиантного религиозного дискурса следует отметить персонификацию информации. Любое сообщение, направленное вовне, должно иметь автора, имеющего свой исторический опыт. Кроме того, в девиантных религиозных дискурсивных практиках обнаруживается «третье» лицо, которое представляет собой «потерпевшего». В процессе речевой пропаганды оно заменяется на «активного участника» событий. В дискурсивных практиках это обеспечивает доверие со стороны лиц аутгруппы.
В рамках периферийного поля девиантных дискурсивных практик отмечается широкая рас-слоенность, обусловленная группой социальных адресатов речевых актов. Так, в процессе коммуникации с лицами, которые относятся к группе молодых людей, в качестве ведущей стратегии используется агитационная стратегия, к группе более старших лиц – пропаганда.
Подведем основные итоги исследования:
-
– в религиозном контексте дискурс рассматривается в качестве языковой формации, в которой представители через использование специального языка подтверждают свою принадлежность к определенной группе. Для религиозного дискурса характерен ряд структурных признаков – участники, ценности, стратегии и тактики, концепты и жанры;
-
– ключевые компоненты девиантных дискурсивных практик указывают на мобильность самого явления с учетом постоянной трансформации в зависимости от целей адресантов и современной общественной ситуации. В рамках ядерной зоны религиозного дискурса присутствуют речевые практики между представителями религиозно-девиантного сообщества на личном уровне. При общении в рамках периферийного поля в современных реалиях наблюдается уход от печатной продукции к ее виртуальную симулякру.
Таким образом, можно говорить о комплементарности структурных признаков религиозного дискурса и ключевых компонентов девиантных дискурсивных практик. «Комплементарный» в переводе с латинского языка означает «дополнять, взаимное соответствие, связь взаимодополняющих друг друга структур». На наш взгляд, принцип комплементарности в новом ракурсе раскрывает основополагающий тезис Ю. Хабермаса: религиозные девиации являются не только продуктом совместного проживания людей различного вероисповедания и этноса на одной территории, но и становятся фактом их публично-коммуникативной сферы (Habermas, 1992). Данное утверждение будет раскрыто в последующих наших исследованиях, посвященных проблеме религиозной девиации как социального феномена.
Список литературы Дискурсивные социальные практики языка и религиозная девиация
- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 446 с.
- Блувберг С.В. Религиозный дискурс. Структура и специфические признаки протестантской проповеди как разновидности религиозного дискурса // Социальная политика и социология. 2007. № 2. С. 223-235.
- Гурин К.Е. Дискурс-анализ как новая методология в изучении общества // Социология и образование: проблемы и перспективы. Ижевск, 2014. С. 85-89.
- Каплуненко А.М. Концепт - понятие - термин: эволюция семиотических сущностей в контексте дискурсивной практики // Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур. Иркутск, 2007. С. 115-120.
- Карасик В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999. С. 5-19.
- Кожемякин Е.А. Религиозный дискурс // Дискурс-Пи. 2013. № 3. С. 124.
- Кожемякин Е.А. Религиозный дискурс: методология исследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 2 (97). С. 32-47.
- Сидорова Т.А. Язык символов как стилистическая особенность экстремистского дискурса в интернет-коммуникации [Электронный ресурс] // Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации. Киров, 2016. URL: http://philology.s-vfu.ru/?page_id=1221 (дата обращения 08.11.2022).
- Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации / под общ. ред. Е.В. Плисова. Н. Новгород, 2015. 210 с.
- Habermas J. Erläuterung zur Diskursethik. Frankfurt am Main, 1992. 229 s.
- Habermas J. Transcendence from Within, Transcendence in This World, Browning and Fiorenza // The Frankfurt School on Religion. N. Y., 2005. Р. 311-334. https://doi.org/10.4324/9780203997178-35.
- Harris Z. Discourse Analysis // Language. 1952. Vol. 28, iss. 1. Р. 1. https://doi.org/10.2307/409987.
- Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. N. Y., 2001. 105 p.