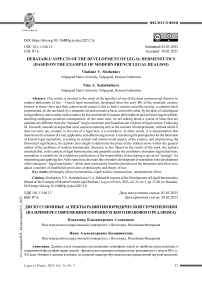Дискуссионные аспекты развития юридической герменевтики (на примере современного французского правового реализма)
Автор: Слеженков В.В., Калашникова Н.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена исследованию специфики одной из наиболее дискуссионных в современной философии права теорий – французского правового неореализма, развиваемого с начала 80-х гг. ХХ века. Интерес к данным взглядам, их спорный характер обусловлены как определенной научной новизной, комплексной основой (представленной, с одной стороны, неопозитивистским и нормативистским базисом, с другой – идеями социологической юриспруденции), так и достаточно радикальным характером для континентально-европейской философско- и политико-правовой традиции, влекущим неоднозначные практические следствия. Вместе с тем речь идет о системе идей, качественно отличающихся от «классических» англо-американских и скандинавских версий правового реализма. Вслед за М. Фуко неореалисты утверждают, что текст получает значение только в момент интерпретации, без которой не несет в себе содержания, в случае текста правового характера – нормативного; иными словами, именно толкование обусловливает создание реальной, применимой и действенной нормы права. Рассматривая предпосылки формирования французского правового неореализма, раскрывая его содержание и дискуссионные аспекты сущности, подчеркивая теоретическое значение, авторы также стремились определить место исследуемых взглядов в рамках общего контура проблематики современного герменевтического дискурса в праве. По итогам исследования авторы приходят к выводу о том, что в контексте юридической герменевтики и в целом в условиях современного правового релятивизма неореализм примечателен доказательным обоснованием невозможности выработки универсальной «стратегии» толкования и применения права; при этом основная линия современного развития неореализма состоит в разработке концепции «правоограничений», наиболее последовательно лимитирующих дискрецию толкователя, что позволяет скорректировать ряд устоявшихся положений философии и теории права.
Философия права, герменевтика, правовой реализм, неопозитивизм, толкование права
Короткий адрес: https://sciup.org/149149470
IDR: 149149470 | УДК: 101.1:340.12 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.2.6
Текст научной статьи Дискуссионные аспекты развития юридической герменевтики (на примере современного французского правового реализма)
DOI:
Правовой неореализм (реалистическая теория толкования), разрабатываемый с начала 80-х гг. ХХ в. Мишелем Тропером и рядом других ученых (Эрик Мийяр, Доминик Руссо, Пьер Брюне), нередко оценивается как наиболее значимый вклад французской науки в философию права за последние полвека; в то же время в современной философско- и теоретико-правовой мысли данная концепция является одной из наиболее остро критикуемых. Стоит подчеркнуть, что речь идет о взглядах, отличающихся от «классических» англо-американских и скандинавских версий правового реализма (в связи с чем их сторонниками и используется – периодически, в целях отражения соответствующих различий – приставка «нео»), кроме того, развиваемых в контексте континентально-европейской правовой традиции, признающей специфическую иерархию нормативности, что изначально предполагает конфликт со сложившимися подходами к правопониманию, стилем и структурой правового мышления. Комплексность содержания, определенная научная новизна и радикализм соответствующих идей предопределяют значительный научный интерес к анализу их особенностей и возможных перспектив эволюции. В числе проблем, получающих в этой связи дискуссионное освещение в науке, видится значимым обращение к вопросу о месте исследуемых взглядов в современном герменевтическом дискурсе в праве.
Идейные контуры правового неореализма
Сторонники рассматриваемой теории не ассоциируют ее с основными концептуальными направлениями современного правового реализма – англо-американским и скандинавским (равно как и с большинством континентально-европейских реалистических концепций – например, возникшими ранее немецкой и итальянской, а также с так называемым «психологическим реализмом» [Тонков Е.Н., Тонков Д.Е. 2022, 167–169]). При этом все реалистические концепции претендуют на описание правовой действительности как не сводимой к текстам или к прецедентам и рассматривают право как множество фактов, подчеркивая особую важность судебной дискреции. В связи с этим М. Тропер, несколько видоизменяя высказывание классика американского реализма К. Ллевеллина, отмечает: «Право есть не что иное, как то, о чем судьи говорят, что это есть право» [Тропер 2011, 181]. Также неореалистами подчеркивается неразработанность правовой наукой теории внесу- дебного толкования. Идейный базис французского правового неореализма носит смешанный характер, что позволяет в ряде отношений позиционировать теорию как находящуюся «на стыке» неопозитивистских и нормати-вистских подходов, с одной стороны, и социологической юриспруденции – с другой, при наличии своеобразного содержания и значимых отличий от всех упомянутых направлений мысли. Характерна в этой связи и позиция М. Тропера, отмечающего, что, перефразируя Ж.-П. Сартра, «чистая теория права» основоположника нормативизма Г. Кельзена не есть непреодолимая философия права нашего времени; однако выйти за ее рамки можно только в отношении центрального аспекта доктрины – эпистемологии.
Ключевое содержательное отличие неореализма заключается в том, что его сторонники, разделяя область нормативного и фактичного и относя право к последней не признают объективного существования норм или ценностей, независимых от воли и представления людей, констатируя невозможность познания чего-либо, кроме выражения этих норм в языке. Соответственно, французский неореализм отличается от «классического» реализма сравнительно меньшим методологическим синкретизмом, отсутствием идеологических позиций, минимизацией поиска аргументации результатов толкования во внеправовых социальных фактах и закономерностях, стремлением к соблюдению идеала «свободы от ценностей» и конструированию правовой теории с помощью сугубо эмпирических методов. Расставляя акценты среди указанных различий, в данном случае стоит также помнить, что сами основоположники правового неореализма заявляют свою теорию как неопозитивистскую [Слеженков 2014, 131].
Изложенное предопределяет специфику взглядов сторонников неореализма на проблематику не только собственно сущности права и его толкования, но и суверенитета, разделения властей, конституционализма, законности, что может быть проиллюстрировано, в частности, масштабными дискуссиями М. Тропе-ра со сторонниками «Эксской школы конституционализма», а также с ключевым представителем современного правового позитивизма австро-французским ученым О. Пферсман- ном по вопросам «судебного правотворчества» и «автономии конституции» (последние получили широкое освещение и в российских научных изданиях).
Основные положения правового неореализма
М. Тропер сводит сущность неореализма к трем базовым тезисам: толкование есть акт волеизъявления, а не познания; его объект не нормы, а тексты, формулировки или факты; субъекты толкования наделены специфической властью [Тропер 2006, 8]. По мнению ученого, не бывает толкования, противоречащего истинному смыслу, неопределимому иным путем; нет независимого от замысла объективного значения акта; иерархия юридической системы заключена в соотношении содержаний, значений и отражает иерархию властей. Правовой неореализм при этом не тождествен ни реализму онтологическому (так как допускает существование лишь эмпирических фактов, но не универсалий), ни реализму в обыденном смысле слова (предполагающему приоритет неких «реалий» перед абстрактными принципами). За объективным правом в оптике неореализма может признаваться идеологическая, моральная, семантическая роль – однако сугубо субъективного характера до выявления смысла правовых высказываний компетентным толкованием; правовой текст получает значение именно в рамках последнего [Тонков, Ветютнев (ред.) 2016, 24]. Следовательно, то, что классически считается нормами права, в действительности есть фактический материал для создания «реальных» норм в процессе интерпретации (неореалисты также называют их «индивидуальными», подчеркивая наличие и «общих», определяемых посредством аутентичного толкования (в широком значении «толкования правоприменительных органов / лиц, наделенных властными полномочиями») [Антонов 2011, 326]); право существует лишь в той мере, в какой его смысл определяют интерпретации, в связи с чем стоит вести речь не о принципиальной дифференциации актов разного времени, а об изменении смысла, придаваемого толкованием. Последнее, в свою очередь, не только устанавливает норму низшего порядка, но и определяет или «воссоздает» высшую (здесь неореалисты в определенной мере основываются на установленном учеником Г. Кельзена, основоположником французского нормативизма Ш. Эйзенманном различении «законности-соответствия» и «законности-совместимости» [Eisenmann 1957, 30] – однако не ограничиваясь сугубо дедуктивным вектором толкования).
Правовой неореализм в оптике герменевтического дискурса
Вслед за М. Фуко неореалисты утверждают, что текст получает значение только в момент интерпретации, без которой не несет в себе содержания, в случае текста правового характера – нормативного. Иными словами, именно толкование обусловливает создание реальной, применимой и действенной нормы права. Рассматриваемая теория, несомненно, занимает важное место в контексте современной юридической герменевтики (по оценке некоторых ученых, будучи наиболее репрезентативным выражением возможностей ее методологии), что предопределяется своеобразием предлагаемых ее представителями подходов к сущности правоинтерпретационной деятельности, определению роли интерпретатора, степени его свободы. С другой стороны, ее положения постоянно подвергаются критике в реалиях французской и, шире, континентально-европейской (романо-германской) правовой традиции за ситуативность и волюнтаристский характер (как предопределенные неприятием правовых универсалий, расплывчатостью модели «аргументативных сдержек»), редукционизм и нелогичность (в разрезе зависимости нормативности от фактичности, что, по мнению ряда критиков неореализма, противоречит закону Юма о невы-водимости суждений о должном из суждений о сущем) [Пферсманн 2011, 234]. В этой связи стоит подробнее рассмотреть аргументы неореалистов, высказываемые в поддержку рассмотренных выше основных тезисов данной теории, далеко не всегда подразумевающие определенные схематичные решения.
Прежде всего, показательно, что М. Тро-пер подчеркивает сравнительно большую близость юридической практики и теории, неже- ли это имеет место в отношении объектов иных социальных наук и описывающих их дисциплин, поскольку представления о праве образуют суть юридической системы и непосредственно предопределяют характер деятельности правоприменителя; кроме того, объект изучения в праве изначально не задан и во многом конструируется правоведами искусственно, отличаясь от «реального права». С этим связаны и проводимое в неореализме применительно к анализу текстов различение «толкования содержания» (уяснение и разъяснение предписаний), и «толкования статусов» (определение места текста в правовой иерархии), признание возможности придания нормативной силы не только тексту, но и факту (например, признание и санкционирование неписаного правового обычая), а также выделение так называемого «права юристов» (что призвано подчеркнуть значение – хотя и второстепенное, косвенное – доктринального толкования как формирующего определенную «систему координат», способную оказать влияние на интерпретатора). Однако приоритетен для неореалистов все же текст. По мнению М. Тропера, интерпретатор может успешно идентифицировать правила, обращаясь к тому, что Р. Дворкин называет «тестом на происхождение»: исследование текста, содержащего правило, с точки зрения его создания компетентным органом власти в соответствии с определенной процедурой. Более того, определяя смысловую неопределенность текста – и необходимость ее постоянного преодоления определенными средствами – как краеугольный камень своей теории, неореалисты в этой связи подчеркивают необходимость корректировки классических постулатов нормативизма о «пирамиде норм» (приобретающей иное значение, в аспекте иерархии толкований, то есть «иерархия норм» конструируется неореалистами не в нормативных предписаниях, а в сознании субъекта толкования) и «фундаментальной норме» (в данном случае – избыточной логико-трансцендентальной гипотезе).
Помимо этого, принимая идею Г. Кель-зена о действительности как способе существования норм права, М. Тропер отвергает классическую нормативистскую идею определения условий их принадлежности к правопорядку через объективную связь приорите- та и соответствия между нормами в сфере долженствования (поскольку действительность норм при таком подходе смешивается с ее критериями или условиями). Согласно позиции неореалистов, объективное право есть свод предписаний, обладающих некоторым субъективным значением, ожидающим своего выявления. Если нормой является значение определенного предписания, исходящее из акта воли, то ее действительность представляет факт того, что подобное значение объективно признается правопорядком. В свою очередь, причиной этого выступает наделение нормативного текста, смысл которого априори объективно не определен, реальным смыслом посредством акта аутентичной интерпретации (в широкой коннотации термина), при мотивировании которого субъект толкования права находится как бы в промежуточном положении между актом воли («существа») законодателя и смыслом этого действия («должно быть»).
Далее необходимо подчеркнуть, что, поскольку ключевым для неореалистов является вопрос об аутентичных интерпретациях, особое значение для теории имеет феномен так называемого «судебного» правотворчества, традиционно вызывающий отрицательное отношение в континентально-правовой системе в целом и во Франции, исходя из понимания институционального и функционального компонентов разделения властей, а также длительного приоритета легицентризма – в частности. В данной ситуации неореалисты не только характеризуют определенную практическую значимость своей модели толкования (стоит помнить, что термин «судебное» в ряде случае используется ими расширенно – также в контексте правоприменения административных и правоохранительных органов, в конечном счете подлежащего судебному контролю), но и вслед за оппонентами из «Эксс-кой школы конституционализма» отмечают, что при формальном наличии в компетенции высших французских судебных инстанций лишь некоторых составляющих «правотворчества» фактическая роль последнего стремится к возрастанию. В этой связи реалистам видятся несостоятельными нормативист-ские и неопозитивистские трактовки возможности реализации судом дискреционных пол- номочий в рамках определенных правил (Г. Кельзен), при рассмотрении сложных дел (Г. Харт) [Тропер 2011, 180], а равно – при необходимости оценки «совместимости» нижестоящих норм с вышестоящими, предопределенной возможностью косвенного влияния детерминирующей нормы (Ш. Эйзенманн) [Eisenmann 1957, 30].
Согласно неореалистической теории дискреция толкователя ограничивается двумя факторами: верой в связанность его решений и поведения правом, принятыми в обществе моделями легитимации судебной власти и расчетом на позицию вышестоящей инстанции; иные сдержки могут быть лишь мотивами поведенческого выбора («аргументативное принуждение»), тем более, что толкование может представлять выбор между практически равноценными вариантами, а возможная разница «капитализируется» толкователем в свою пользу. Соответственно, единство правопорядка базируется на актах волеизъявления, относительное единообразие которых объясняется единством условий жизни конкретного общества, а также тем, что иерархия норм отражает иерархию властей (органов аутентичного толкования). В этой связи подлинное аутентичное толкование не может быть истинным или ложным, поскольку правовая система наделяет его необходимым эффектом.
Особая ситуация возникает в сфере конституционной юстиции (представленной во Франции квазисудебным учреждением – Конституционным советом), где дискреционная свобода проявляется отчетливее [Troper 2001, 58] ввиду нацеленности на сокращение разрыва между требованиями формальной конституции, не способными выражать нормы в отрыве от содержательных решений, имеющих «последствия в рамках правопорядка», и нормотворчеством более низкого уровня [Millard web]. В данном разрезе особенно значим вывод неореалистов о том, что при аутентичном толковании выявляются не только те или иные положения, но и статус текста, то есть конструируется действительная нормативная иерархия. Такой подход, по мнению неореалистов, способствует преодолению логического изъяна в «чистой теории права», касающейся «фундаментальной нормы»: ведь если исходить из кельзеновской идеи о том, что каждая норма находит основу своей действительности в более высокой, конституция является основой окончательной действительности всех норм правопорядка, но поскольку нет нормы выше конституции, последняя не может быть идентифицирована как правовой стандарт таким же образом, как и все другие стандарты, что ставит вопрос о действительности, а также применимости конституции для установления обоснованности норм более низкого уровня.
Приведенные особенности неореализма вызывают критику за волюнтаризм и «суверенизацию» роли суда, придание последнему функции со-законодателя (не случайно неореалистические разработки часто обсуждаются в контексте иллюстрации проблематики так называемого феномена «судебного правотворчества» [Слеженков 2014, 130]). В то же время и самими неореалистами отмечаются возможные в данном контексте риски политизации права, релятивизации норм и институтов [Rousseau 2001, 480], не вполне совместимые с логикой классической демократии, тем не менее оцениваемые как своего рода «меньшее зло» в сравнении с угрозами, которые таит для правовой системы следование некоему абстрактному, изначально заданному смыслу норм, восприятие права как идеальной сущности. Показательно в этой связи, как отмечает отечественный ученый и судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев (в целом критично оценивающий правовой реализм), «неявным образом, вполне возможно, что и неосознанно, интуитивно концепция Тропера воплощена в юридических нормах, которые являются для законодательства о конституционной юстиции частями конституционного законодательства, причем ключевыми» [Гаджиев 2013, 230]. Речь в данном случае идет не только о «нормативном эффекте», но и об исключительно широком контексте конституционного толкования норм, далеко не сводимом к выявлению их буквального значения.
Изложенные тезисы позволяют французским неореалистам констатировать необходимость коррекции метафор «пирамиды норм» и «фундаментальной нормы» Г. Кельзена, а также невозможность выработки «реалистической» правовой политики [Тропер 2018, 61]. В этом неореалистами усматривается скорее преимущество, а не недостаток: подобная позиция объясняется тем, что дискреционная власть интерпретатора неизменно вуалируется с формальной точки зрения, но в то же время увеличивается с фактической – что в идеале призвано способствовать более качественному и сбалансированному правоприменению, нивелировать риски нестабильности законодательства (следует отметить употребление во Франции в этой связи термина «законодательная инфляция»). Наряду с этим стоит отметить, что именно в данном аспекте М. Тропер и его сторонники видят главную сложность своей теории, в связи с чем основная линия современного развития неореализма состоит именно в разработке концепции «правоограничений», наиболее последовательно лимитирующих дискрецию толкователя [Debard web] – притом, что проблема конструирования таковых далека от разрешения и в рамках иных современных направлений юридической мысли.
Выводы
Радикальный характер французского правового неореализма – особенно в контексте континентально-европейской политико-правовой традиции – предопределяет исключительную дискуссионность данной теории; вместе с тем очевидно, что она представляет оригинальную, практико-ориентированную попытку осмысления ряда проблем современной философии и теории права, не имеющих общепризнанного решения, развиваемую на стыке различных идейных направлений – неопозитивизма, нормативизма, социологической юриспруденции. Позитивистские (а в ряде моментов близкие и к нормативизму) основы теории определяет акцент на динамическом аспекте иерархизированного правопорядка, поиск тождественных начал правотворчества и правоприменения, анализ норм в обязательственном контексте, оценка толкования как волеизъявительной деятельности, ценностная амбивалентность, общность определения ряда ключевых категорий, например, нормы права или аутентичного толкования; в то же время ее «социологизирован-ность» определяется несводимостью аргумен-тативных сдержек в толковании к юридическим, подчеркнутым эмпиризмом, возможностью наделения значением не только текстов, но и фактов, признанием значимости влияния на толкование внеправовых факторов. В этой связи в контексте развития юридической герменевтики и в целом в условиях современного правового релятивизма неореализм примечателен, прежде всего, доказательным обоснованием невозможности выработки любой универсальной «стратегии» для толкования и применения права, при том, что фактическое признание правотворческой монополии интерпретатора сопровождается стремлением возможно более полного обоснования важности ответственности, индивидуального выбора, а не инертного следования догматичному пониманию норм, смысл которых задан изначально и не нуждается в мотивации разрешения дилеммы между различными значениями. В конечном счете неореалистическая теория выступает яркой иллюстрацией тезиса о том, что авторитет текста (а значит, и его легитимность) прямо пропорционален интенсивности той интеллектуальной работы, которая с ним ведется.