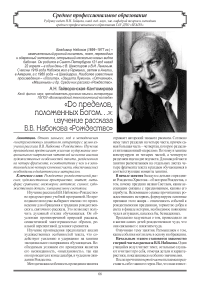«До пределов, положенных Богом…»: изучение рассказа В.В. Набокова «Рождество»
Автор: А.Н. Гайворонская-Кантомирова
Журнал: Учебный год.
Рубрика: Среднее профессиональное образование
Статья в выпуске: 4 (62), 2020 года.
Бесплатный доступ
Описан замысел, ход и методическая «инструментовка» занятия по литературе с целью изучения рассказа В.В. Набокова «Рождество». Изучение произведения предполагает усиление и удержание эмоционального напряжения читателей на основе анализа художественных особенностей текста, разделенного на четыре фрагмента, в соответствии с чем и в занятии выделено четыре ключевых части, обеспечиваемых необходимым дидактическим материалом.
Рождество; рождественский рассказ; художественное пространство; эпитет; метафора; сравнение; оксюморон; антитеза; символ; художественная деталь; эмоциональное состояние.
Короткий адрес: https://sciup.org/14120784
IDR: 14120784
Текст статьи «До пределов, положенных Богом…»: изучение рассказа В.В. Набокова «Рождество»
Изучение рассказа В.В. Набокова «Рождество» не предусмотрено учебной программой. Но преподаватели подчас выбирают именно это произведение для обращения к традиции рождественского, святочного рассказа. Это позволяет получить духовный отклик обучающихся. Он обусловлен противоречивой природой рассказа, семантической многогранностью образов, реальной перспективой духовного развития.
Изучение произведения предполагает анализ художественных особенностей текста, что содействует усилению и удержанию на занятии эмоционального напряжения обучающихся. Необходимым условием его проведения является его неожиданность, «внеплановость», так как оно проводится к конце декабря, в чудесном ожидании Рождества.
Методическая особенность проведения занятия отражает авторский замысел рассказа. Согласно нему текст разделен на четыре части, причем самая большая часть – четвертая, которую разделяет интонационный «перелом». Поэтому и занятие конструируем из четырех частей, а четвертую разделяем еще на две подчасти. Для каждой части занятия распечатываем на отдельных листах четыре фрагмента текста и раздаем обучающимся в соответствующие моменты занятия.
В начале занятия беседую с детьми о празднике Рождества Христова – об истории Рождества, о том, почему праздник назван Светлым, какие ассоциации связаны с празднованием, каковы его атрибуты. Вспоминаем о ранее прочитанных рождественских историях, формулируем основные признаки этого жанра – отнесенность событий к рождественским праздникам, торжество добра и света в финале истории, необходимое появление чуда в ситуациях, казалось бы, безнадежных.
Предлагаю задуматься о том, происходило ли в жизни самих детей рождественское чудо, что они связывают с понятием чуда.
Озвучиваю тему занятия. Размышляем о том, какие события могли лечь в основу изображения.
Начальным этапом становится знакомство с первой частью рассказа В.В. Набокова. Один учащийся вслух читает текст, остальные слушают и читают про себя, отмечая детали и характеристики, показавшиеся особенно значимыми.
После прочтения первой части пытаемся представить себе главного героя. Все, что нам извест- но – это его фамилия и еще – необыкновенное потрясение, вызванное, очевидно, трагедией.
Работая с текстом, извлекаем информацию для характеристики состояния Слепцова.
Мы движемся по следу карандаша, создающего очертания великого горя: «…когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез», «Незачем было будить, согревать его» (главный дом, где жил герой летом)1.
Символической деталью оказывается розовый абажур (который Набоков называет шелковой клеткой). Это упоминание еще больше стискивает пространство, в котором почти задыхается от горя герой. Значимо и упоминание о нежилом угле, который выбрал Слепцов – как знак утраты гармонии и поиска положения в пространстве, облегчающего боль.
Переходя ко второй части рассказа, обращаюсь к учащимся с вопросом: можем ли мы предположить, чем вызвано такое состояние героя? Учащиеся озвучивают свои предположения, пытаются представить, что произойдет с героем далее. Читаем вместе вторую часть рассказа. Выясняем, какие наши предположения оправдались. Видим, что смерть сына лишила Слепцова смысла жизни; особенно отмечаем сравнение « словно всею жизнью наполненный гроб » (321).
Анализируя текст, определяем роль контраста. В описаниях торжествующей природы, внешнего мира: « весело выстрелила под ногой половица», «легли райскими ромбами отраженья цветных стекол», «дверь <...> сладко хряснула», « блистательный мороз» (320) и состояния героя – «Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. <…> Горько, гневно столкнул с перил толстый пушистый слой» (321).
Противопоставлены не только настроения, ощущения – само пространство – огромное – «сиял высокий парк», «слепительная глубь» (320–321), – внешнее, как кажется Слепцову, безразличное к его страданию, сдавливает внутреннее, личное, интимное (дом, в котором сосредоточились болезненные воспоминания, – « оглушенное деревянное строеньице» (320), стиснутое сугробами).
Образ Слепцова выполнен в темной гамме – «в полушубке с каракулевым воротником» идет он, «оставляя за собой в снегу синие ямы» (321) – в противоположность образу ликующей, блистательной природы – зеленые лапы елок, зеленоватая синева сосулей, шафранные пятна на снегу, « удивительно светлые деревья», « розоватые струи дыма» (321).
Сопоставление эпитетов заставляет вернуться к описанию парка, «где каждый черный сучок окаймлен был серебром» (320). Сам Слепцов подобен сучку, охваченному серебряным великолепием. Расширяя перспективу, можно захватить в поле зрения и образы церковной семантики: появляются «белые купола клумб» (320), «белокаменный склеп близ сельской церкви», «церковный крест», который «слепо сиял» (321).
Над словами «слепо сиял» учащиеся задумываются: сочетание напоминает оксюморон2. Делаем выводы о необходимости такого слияния: они могут быть разными, но более всего дети убеждены в том, что это символизирует безразличность высшей силы к боли и горю героя.
Прошу найти в первой части образ, связанный с атрибутикой богослужения – «...к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула» (320). Застывшая, а затем треснувшая чешуйка вызывает ассоциацию с надломом, непоправимой бедой.
После обсуждения второй части некоторые дети решают, что рассказ завершен. Такой финал кажется им трагичным, они потрясены трагичностью событий, пытаются соотнести свои размышления с темой занятия и оказываются не готовыми представить выводы.
Поэтому предложенная третья часть вызывает неподдельный интерес к истории героя... Прочитав фрагмент, размышляем над сменой плана изображения – теперь действие переносится в пространство нежилого холодного дома, в котором Слепцов с сыном жили летом. Происходит ощутимое сжатие «тоннеля» – вначале он был широким (над шапкой проплывают белые морозные веера, под санями – колеи, лоснящиеся « серебряной голубизной » (321) – по дороге на кладбище), своеобразным символом сужения и конечного тупика становится могильная ограда .
Слепцов ощущает разочарование от того, что на погосте он оказался далеко от сына и едет домой, туда, где сохранилась память о мальчике. Вечером он открывает дом: дверь раскрывается « с тяжелым рыданием », из железных сеней «пахнуло <...> незимним холодком », «полы тревожно затрещали», « мебель в саванах казалась незнакомой», «вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок » (322) – «тоннель» еще более сужается.
Далее – переход в комнату сына, где Слепцов пытается расширить пространство: «…наполови-ну отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни» (322). Однако попытка безуспешна: «… все равно за окном была уже ночь» (Там же), в стекле при свете лампы отражается только его лицо.
Мебель в комнате зачехленная, узкая, и стол на какой-то миг приобретает иное значение: герой,
2 Оксю́ морон (или окси́морон, а также оксюморóн, оксиморóн) – это образное сочетание противоречащих друг другу понятий; остроумное сопоставление противоречивых понятий, парадокс; стилистическая фигура или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением.
«…уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы» (322). Возникает аналогия: стол / гроб . Только теперь, в сузившемся до предела «тоннеле», Слепцов смог дать выход своему горю, «горбясь, всхлипывая всем корпусом» (322).
Говоря о том, как ощутимо нарастает эмоциональное напряжение, связываем это со сдавливанием пространства. Отмечаем глубокий психологизм набоковской прозы. Многие учащиеся обращают внимание на то, что сужение пространства продолжается – стол – ящики стола... распластанные бабочки могли напоминать Слепцову о его собственном раздавленном состоянии. Некоторые дети полагают, что герой обязательно найдет что-то необычное в ящиках стола...
Приступаем к чтению четвертой части – она самая большая. Разделяю ее на две фрагмента – «граница» следует после предложения «Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...» (324).
После прочтения первого фрагмента четвертой части «рассматриваем» находки Слепцова, уложенные в деревянный ящик (его приносит герой во флигель из комнаты сына), – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, распра-вилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Слепцов пытается найти ответы на терзающие его вопросы в синей тетради – дневнике сына.
Делимся мыслями о дневниковых записях: учащиеся говорят о том, что мальчик был уже взрослым человеком, пережившим первые душевные потрясения, испытавшим первую любовь. Прозвучала мысль о том, что фамилия героя Слепцов – оказывается «говорящей» – он не заметил, как повзрослел сын, не успел понять, что его волновало; в символическом ключе воспринимается запись «В глаз попала мошка» (323). «Он ничего не говорил мне...» – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб» (324). Отчего в горле героя стоит горячий, огромный комок? Отчего подступили страшные сухие рыдания?
Дети приходят к выводу о том, что Слепцов почувствовал страшную вину перед умершим сыном за то, что не смог духовно сблизиться со своим ребенком, обрести его доверие... Мелькнул образ рождественской ели – в начале главы как второстепенный, ненужный герою: «Не надо, – убери» (323), – говорит он слуге Ивану. А в конце главы наступающее Рождество становится полюсом парадоксальной антитезы: «Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же… <...> Смерть» (324). Неприятие божьих знаков переходит в обостренный внутренний протест, выражающийся в словах «…до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...» (324).
Прошу детей обратить внимание на слова «Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки» (324). Звучат разные предположения: этот свет контрастирует с внутренним мраком души героя, это символ непостигаемости человеческим умом высшего замысла, это невидимый Слепцовым знак надежды...
Успевшие заметить в последнем предложении сочетание «на мгновение ему показалось» (324) поняли, что история обязательно должна иметь продолжение и предложили приступить к чтению следующей части.
Прочитав окончание , отмечаем, что образ Слепцова практически растворился, на первый план выступает восхитительное существо, на глазах превращающееся из влажного комочка в громадного индийского шелкопряда. Внимательно анализируем описание бабочки: « …крылья <...> продолжали расти, <...> развернулись до предела, положенного им Богом», «…загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья » (324–325).
Размышляем над вопросами: почему Набоков больше не обращается к образу Слепцова? что символизирует появление бабочки? случайно ли ее «рождение» именно в этот момент? Учащиеся приходят к выводу, что Чудо все-таки происходит, что оно учит человека верить в существование великой гармонии и ощущать себя частью ее, что Чудо «подготавливалось» заранее – только Слепцов (опять же – «говорящая» фамилия) не хотел видеть его знаков – чешуйки воска на руке, церковный крест, белые купола клумб, рождественская ель. Чудо приходит в жизнь отчаявшегося человека и останавливает его перед страшным шагом движением простершегося крыла, распахнутого до пределов, положенных Богом.
Делимся впечатлениями от прочитанного рассказа, говорим об особенностях авторского стиля, размышляем о гуманизме, духовности жанра.
Завершаю занятие предложением написать рождественскую историю, проиллюстрировать эпизод прочитанного произведения, познакомиться с текстами рождественских историй других авторов.
Приглашаю к своему столу, на котором стоит елочка, а вокруг нее – маленькие памятные подарки для вдумчивых, талантливых читателей.
Завершающий этап занятия сопровождается музыкой – исполняется песня «Этот мир» А. Зацепина на стихи Л. Дербенева, на экран проецируются изображения индийского шелкопряда.