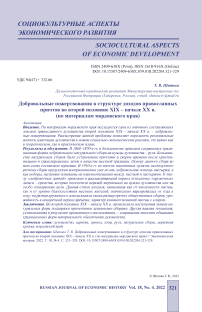Добровольные пожертвования в структуре доходов православных причтов во второй половине XIX - начале XX в. (по материалам Мордовского края)
Автор: Шитова Татьяна Васильевна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Социокультурные аспекты экономического развития
Статья в выпуске: 4 (59) т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. По материалам мордовского края исследуется одна из значимых составляющих доходов православного духовенства второй половины XIX - начала XX в. - добровольные пожертвования. Рассмотрение данной проблемы позволяет определить региональные аспекты адаптации духовенства к новым социально-экономическим реалиям, что важно как в теоретическом, так и практическом плане. Результаты и обсуждение. В 1860-1870-е гг. в большинстве приходов сохранилась традиционная форма добровольного натурального сбора на нужды духовенства - руга. Большинство натуральных сборов были установлены причтами в скором времени после христианизации и транслировались затем в качестве местной традиции. Основу данного сбора во всех селах составляли зерновые. В 1910-е гг. во многих населенных пунктах исследуемого региона сборы продуктами воспринимались уже не как добровольная помощь пастырям, а как поборы, негативно влиявшие на взаимоотношения между паствой и пастырями. К числу «доброхотных деяний» прихожан в рассматриваемый период относились «кружечные» деньги - средства, которые посетители церквей жертвовали на нужды духовенства или на особо оговоренные цели. Данная статья доходов, зависевшая как от численности паствы, так и от уровня благосостояния местных жителей, значительно варьировалась от года к году; на размер кружечного дохода влияли также размер прочих общественных сборов, урожайность в конкретный период времени, характер взаимоотношений паствы с клиром. Заключение. Во второй половине XIX - начале XX в. происходила постепенная замена натуральных форм поддержки причетников денежными сборами. Другая важная тенденция, установленная в результате проведенного исследования, - сокращение многими общинами традиционных форм материального обеспечения духовенства.
Духовенство, церковь, приход, клир, руга, натуральные сборы, церковная кружка, мордовский край
Короткий адрес: https://sciup.org/147238771
IDR: 147238771 | УДК: 94(47) | DOI: 10.15507/2409-630X.059.018.202204.321-329
Текст научной статьи Добровольные пожертвования в структуре доходов православных причтов во второй половине XIX - начале XX в. (по материалам Мордовского края)
В условиях активизации исследований истории православного духовенства [1–3; 5] одной из малоизученных проблем остается содержание причтов в пореформенный период. Рассмотрение данной темы значимо в научном плане, так как позволяет определить региональные аспекты адаптации духовенства к новым социально-экономическим реалиям, прямо связанным с модернизационными процессами второй половины XIX – начала XX в. Практическая составляющая анализа взаимодействия духовенства и сельских жителей по вопросам материального и финансового обеспечения приходов в эпоху войн и социальных катаклизмов также не вызывает сомнений.
Исследование проведено по материалам мордовского края, под которым понимаются районы компактного расселения мордвы-эрзи и мордвы-мокши. В связи с необходимостью сравнительного анализа этноконфессиональных и общественнополитических процессов при подготовке статьи использовались материалы по расположенным по соседству с мордовскими селениями русским населенным пунктам, где в разное время служили одни и те же православные пастыри, а также данные по смешанным русско-мордовским приходам.
Результаты и обсуждение
Во второй половине XIX в. во многих приходах все еще сохранялась прежде широко распространенная форма материаль- ной поддержки мирянами клира – руга. По традиции, установленной еще во времена массовой христианизации, прихожане брали на себя обязательство обеспечивать православное духовенство продуктами питания. В то время члены причта не получали казенного содержания, поэтому материальная, а позже и финансовая поддержка мирян были жизненно необходимыми.
Так, в с. Липовка Ардатовского уезда1 прихожане обязывались собрать священнику 180 мер ржи и 90 мер овса; псаломщик в этом селе довольствовался тем, что дадут из зерна нового урожая («добровольным даянием»)2. В с. Алашеевка того же уезда руга со всего общества составляла 225 пудов ржи3. Домохозяева с. Селищи (Арда-товский уезд) в 1886 г. постановили давать причту 500 пудов ржи4.
В некоторых селах был установлен конкретный размер сбора с ревизской души. В с. Альза и Хухорево Ардатовского уезда решили собирать с души по 20 фунтов зерна5, в с. Игнатово – по 10 фунтов6. В с. Блохино Саранского уезда Пензенской губернии среди продуктов, выделяемых священнослужителям прихожанами «по существующему обычаю», в 1867 г. были отмечены только зерновой хлеб (на 30 руб.), а также пенька (на 4 руб.) [4, с. 322]. В с. Кочкуши Ардатовского уезда, помимо ржи нового урожая, крестьяне подрядились давать и другой ценный продукт – конопляное семя; в общей сложности руга оценивалась в 1915 г. приблизительно в 40 руб.7 В с. Шейн-Майдан того же уезда священник счел для себя более удобным взамен хлебного сбора получать денежный оклад в размере 70 руб.; псаломщик в 1915 г. насобирал зерна на сумму 30 руб.8 Еще в 1879 г.
общественным приговором с. Старая Пуза Ардатовского уезда была назначена прибавка к денежному довольствию местного духовенства в размере 200 руб.9
Помимо руги зерном нового урожая (так называемой новью, новинкой), священнослужители вводили, нередко по своему усмотрению, самые разнообразные натуральные сборы. Упоминания об этом дополнительном источнике доходов довольно часто встречаются в очерках приходских священников начала 1900-х гг.
Перечисление натуральных сборов содержит очерк истории церкви с. Шувары Инсарского уезда Пензенской губернии, подготовленный И. А. Дружининым (1909): «Кроме этого сбора зерном, существуют сборы и при прохождении прихода с молебнами на Пасху и в храмовые праздники. В это время каждый домохозяин дает причту, кроме денег, печеный хлеб и ситный пирог. Дают также хлеб крестьяне при крещении их младенцев и при совершении на дому молебнов с водосвятием. Во время Петрова поста, когда причт проверяет состав семейств прихожан по духовным росписям, производится сбор сырых куриных яиц. В общей сложности весь сбор натурою даст в год священнику приблизительно 80 рублей, диакону – 50 рублей и псаломщику – 30 рублей» [4, с. 105].
Со слов старожилов с. Селищи Краснослободского уезда Пензенской губернии, во второй половине XIX в. священнослужители брали с прихожан все, чем могли с ними поделиться крестьяне: зерно, яйца, хлеб, лапти и т. п. Резюмируя собранные по заданию начальства сведения, селищенский священник А. А. Гроздов писал в 1903 г.: «Довольствуясь малым содержанием, ду- ховенство прежнего времени было очень скромно в требованиях к жизни» [4, с. 177].
В начале XX в. продуктовые сборы в с. Селищи осуществлялись следующие: «каждый домохозяин дает причту, кроме денег, печеный хлеб, ковригу и ситный пирог. Приносят также хлеб при крестинах и при чтении родильнице сороковой молитвы. На Рождество и на Крещение при хождении с крестом причту дают вместо денег овса, но сбор зерном год от года становится меньше и в недалеком будущем, вероятно, отойдет в область преданий. В Петров пост, когда причт поверяет состав семейств прихожан по духовным росписям, производится сбор сырых яиц» [4, с. 179–180].
По оценкам А. А. Гроздова, всего за год «сбор натурою дает в год священнику приблизительно 75 рублей, диакону – 50 рублей, а псаломщику – 25 рублей» [4, с. 180].
Очерк истории причта с. Блохино Саранского уезда предоставляет значительный интерес в плане определения роли празднеств в содержании духовенства в «прежнее время»: «В некоторых же случаях, когда, напр[имер], заводились в селе свадьбы, все духовенство в буквальном смысле “кормилось” у своих прихожан. Случалось иногда в году до 20 свадеб – тогда свадебный сезон растягивался на целую осень и весь зимний мясоед. Для духовенства это было самое веселое и доходное время. Кроме обильных приношений причту (муки, крупы, мяса, вина и пр.), каждый прихожанин за несколько дней до свадьбы собирал особый “пир”, на который приглашались все члены причта со своими женами и домочадцами. Пировали иногда по нескольку дней, причем все пиршественные остатки (если оказывались) развозились по домам причта. Это угощение становилось часто не дешевле свадебных пиров. В течение всей Пасхальной седмицы духовенство тоже состояло на иждивении прихожан. В хождении с молебнами по домам, кроме членов причта, обязательное участие принимали их жены и взрослые сыновья. В каждом доме матушка и жены церковников получали по яйцу и пирогу, причем величина пирога была в строгом соответствии с рангом каждой из них» [4, с. 322].
Также в своем исследовании, основанном на богатом фактическом материале, священник и по совместительству знаток старины представляет умозаключение об эволюции средств содержания местного причта в XIX – начале XX в.: «С изменением жизненных условий постепенно изменились и способы содержания нашего духовенства. Обычай “кормиться” у прихожан был оставлен, натуральная плата стала заменяться денежной» [4, с. 322].
О весьма значительных натуральных сборах в другом селении Краснослободского уезда – с. Новая Ямская Слобода – сообщается в очерке И. П. Александровского [4, с. 141]. Одной из основных доходных статей местного духовенства вплоть до 1880-х гг. оставался печеный хлеб, которого, по словам иерея, по всему приходу собиралось большое количество. Доходы новоямского причта описывались следующим образом: «при каждом молебне в домах прихожан кладутся на стол каравай и ситный пирог, по отслужении молебна эти хлебы берутся причтом. Таковых молебнов в течение года отслуживается до 1 700; следовательно, от них получится 1 700 караваев и столько же пирогов. К этому прибавим еще по ковриге за крестины, таковых у нас бывает в год до 250, и около 50 ковриг и пирогов, получаемых причтом за служение молебнов при свадьбах. Итого в год будет 2 000 караваев и 1 750 пирогов. Если положить средним числом ковригу в 10 фунтов и пирог в 3 фунта, то выйдет всего хлеба 631 пуд 10 фунт[ов]. Кроме того, во все воскресные и праздничные дни приносится прихожанами много пирогов, особенно блинов на панихиды, особенно много их бывает в родительские субботы. Все эти приношения поступают в пользу причта» [4, с. 141].
Написанный Н. А. Докучаевым очерк истории прихода с. Вырыпаево Саранского уезда (1910) не только содержит подробное описание натуральных повинностей мест- ного русского крестьянства в пользу церкви, но и характеризует отношения пастырей и паствы в довоенное время: «Здесь положен сбор зерном: по окончании полевых работ – “новинкой” “на семена и на имена”, и постом – за постную молитву, когда священник ходит по домам и читает прихожанам положенные “молитвы в начале поста св[ятой] Четыредесятницы”. Однако за последнее время как кружечный сбор, так и сбор зерном заметно стали год от года умаляться и умаляться, так что последний сбор, сбор зерном, скоро-нескоро отойдет в область преданий...
Кроме этих сборов, существуют еще сборы при прохождении прихода с молебнами на Пасху и в храмовые праздники, когда каждый домохозяин готовит к этому времени “особый хлеб” для “попов”, отличающийся от прочих хлебов, испеченных в одной и той же печи одновременно, своим особым невзрачным видом, представляя из себя именно “особый” хлеб и по виду и, конечно, по вкусу; иногда дают лежалый хлеб, так что если разломить его, то внутри непременно окажется плесень. “Попы не сами едят наш хлеб – он у них идет скотине и птицам”, – обыкновенно оправдываются в этом случае домохозяева, когда им заметят, что хлеб не совсем удобный.
Дают также хлеб при крещении младенцев и при совершении молебнов с водосвятием на домах, при совершении литий об усопших на домах в положенные дни, а иногда и в церкви при служении тех же литий.
Вообще здесь хлебная доходность составляет незначительный процент как подспорье материальной обеспеченности духовенства и в общей сложности дает священнику 50–60 рублей в год, а псаломщику 20–25 рублей» [4, с. 340].
Схожее описание основных церковных сборов жителей Саранского уезда содержит очерк истории с. Голубцовка И. С. Померанцева, датируемый 1915 г.: «Здесь принят был сбор зерном: по окончании полевых работ “новинкой” и потом “за постную мо- литву, когда священник ходит по домам и читает прихожанам положенные молитвы в начале поста св[ятой] Четыредесятницы”. Однако за последнее время сбор зерном заметно стал год от года более и более уменьшаться и почти совсем в настоящее время прекратился» [4, с. 356]. Судя по данному фрагменту и исследованию Н. А. Докучаева, тенденция сокращения натуральных церковных повинностей, заметная к 1910 г., спустя пять лет проявилась еще более четко.
Ознакомление с данными источниками позволяет сделать вывод, во-первых, о разнообразии местных церковных сборов, большинство из которых члены причта устанавливали по своему усмотрению и транслировали впоследствии в качестве традиции; во-вторых, о тесной взаимосвязи священнослужителей и местных жителей в XIX столетии, воспоминания о которой еще были живы среди населения мордовского края; в-третьих, об определенной трансформации взаимоотношений в причтах в начале 1900-х гг. В конце рассматриваемого временного отрезка во многих мордовских селениях сборы продуктами воспринимались уже не как добровольная помощь пастырям, а как поборы, в связи с чем взаимоотношения между паствой и пастырями существенно ухудшились.
Ускорили процесс ликвидации натуральных сборов, как нам представляется, установление казенных окладов приходскому духовенству, изменение массового сознания в годы Первой русской революции, а также кризисные явления в экономическом развитии российской провинции в годы Первой мировой войны.
Чтобы составить более полное представление о процессе деградации руги в начале XX в., рассмотрим несколько примеров.
Об изменении отношения к духовным лицам после событий 1905 г. свидетельствует отмена в смешанном русско-мордовском селе Старая Пуза (Ардатовский уезд) ежегодного денежного пособия. Установленная приговором 1879 г. прибавка к де- нежному довольствию в размере 200 руб. просто перестала выплачиваться10.
Как уже было упомянуто, община с. Игнатово еще в XIX столетии постановила ссыпать хлеб в пользу причта из расчета 10 фунтов с души, однако, как докладывали иереи начальству, в полном объеме сбор так ни разу и не произвела. В 1915 г. духовенство получило меньше половины обещанного; всем миром игнатовцы набрали 216 пудов11.
Община с. Маресево Ардатовского уезда дальше других зашла в стремлении привести отношения с духовенством в соответствие с «веяниями нового времени». Отмена хлебного сбора в пользу причта была оформлена постановлением сельского схода от 20 сентября 1915 г.12
В 1915 г. иерей Свято-Димитриевской церкви с. Собаченки Ардатовского уезда был вынужден доложить епархиальному начальству: «хлебнаго сбора по случаю во-еннаго времени не было»13.
Результатом означенных процессов в первые десятилетия XX в. стало продолжение сокращения размеров натуральных сборов. К 1915 г. из 116 сельских приходов Ардатовского уезда только 47 (40,5 %) сохранили ругу; жертвовалась мирянами либо часть нового урожая (15 приходов), либо определенная сумма денег на содержание духовенства (32 прихода). Размер руги был в основном незначительным: среднее значение денежного взноса по Ардатовскому уезду в 1915 г. составило 89,4 руб., зернового сбора – 127,5 пуда. В то же время эти деньги позволяли приобрести продукты питания, были серьезным подспорьем для низших членов причта.
В 1915 г. в мордовских селах ругу собирали немного чаще, чем в русских (45 % храмов); в 28,6 % мордовских приходов на- туральный сбор был заменен денежным. По размеру натуральная помощь была больше: причту выдавали в среднем 171,8 пуда хлеба; усредненные значения руги в денежном эквиваленте составили 106,7 руб.
Показателями того, что данная форма взаимодействия причта и паствы в скором времени должна была исчезнуть, на наш взгляд, являлись:
-
1) мизерность сборов в ряде сел, жители которых при сборе руги часто ограничивались весьма символическими подаяниями в пользу причта14;
-
2) мотивированные приговоры сельских обществ об отмене руги15, которым клир и епархиальное начальство ничего не смогли противопоставить;
-
3) отказ от руги в большей части (59,6 %) селений Ардатовского уезда к 1915 г.
В целом выделенные тенденции свидетельствуют о постепенной ликвидации в приходах мордовского края натуральных форм помощи крестьян духовенству.
К числу «доброхотных деяний» прихожан в рассматриваемый период относились кружечные деньги – средства, которые посетители церквей добровольно жертвовали на нужды духовенства или на особо оговоренные цели, опуская монеты или (гораздо реже) банкноты в емкости, установленные специально для этого.
Особый интерес для оценки размеров кружечных сборов представляют выписки, сделанные И. В. Голубинским в церковном архиве с. Аксел Краснослободского уезда. Изучив заполнявшуюся в 1854–1871 г. в храме «Книгу для записывания доходных денег, отпускаемых в общественную братскую кружку», исследователь так описал «весьма скудные» и «весьма разнообразные» пожертвования: «За первые 7 лет (1854–1860) ведется запись и счет на ассиг- нации, а в дальнейшем, за 11 лет, – на серебро. В первом периоде доходность погодно колеблется между 133 и 817 рублями на ассигнации, давая в среднем вывод всего на братию 500 рублей ассигнациями в год, что при составе причта из 1 священника, 1 диакона, 2 дьячков и 2 пономарей давало священнику около 161 рубля в год, диакону – 108 рублей, каждому дьячку – по 66 рублей, обоим – 132 рубля, каждому пономарю – по 52 рубля 50 копеек, обоим – 105 рублей. Всего – 506 рублей. Во втором периоде, за 11 лет, при счете на серебро цифра доходности в год колеблется между 200 и 581 рублем, давая в среднем вывод за год 401 рубль. При составе причта из 2 священников, 1 диакона, 1 дьячка и 1 пономаря приходилось: священникам – по 120 рублей, всего – 240 рублей, диакону – 80 рублей, дьячку – 50 рублей, пономарю – 40 рублей, и всем – 410 рублей» [4, с. 166].
Проведенные по этим данным подсчеты позволяют отметить:
-
1) значительную разницу в кружечном сборе по годам (более чем в 6 раз в 1854– 1860 гг.), свидетельствующую о нестабильности данного источника дохода для приходского духовенства;
-
2) сохранение одинаковых пропорций выплат разным категориям служащих в два рассмотренных периода: дьякон получал из кружечных денег в 1,5 раза меньше, чем священник; дьячок – в 1,6 раза меньше, чем дьякон;
-
3) незначительность средств, выделявшихся из кружечного сбора низшим членам причта.
В подтверждение «скудости денежной доходности» сборов для церковнослужителей И. В. Голубинский привел случай, о котором он услышал от одного из членов своего причта. Молодой церковнослужитель, поступивший на место отца-пономаря и спустя некоторое время уже обзаведший- ся семьей, рассказывал в начале 1860-х гг.: «После дележа пасхального дохода следующий раздел был на летнюю Казанскую, разделили кружку, и мне досталось 18 копеек серебром. Приношу отцу: “Вот, папаша, получите доход, – говорю, – 18 копеек”. Отец взглянул на них, прослезился, да и говорит: “Чего уж это на семерых-то?! Ступай-ка за свои труды поразвлекись на Казанской (ярмарка в с. Проказна Мокшанского уезда Пензенской губернии. – Т. Ш.)”; и я, в слезах, пошел пешком на Казанскую развлекаться на 18 копеек» [4, с. 167]. Справедливость приводимых в воспоминаниях пономаря данных о доходах церковников подтверждалась вышеупомянутой «Книгой для записывания доходных денег», каждое полугодие проверяемой благочинным [4, с. 166–167].
Между тем, как нам удалось выяснить, в совокупности кружечные сборы позволяли получить не такие малые средства, как сообщали отдельные члены причта.
По подсчетам, произведенным по кли-ровым ведомостям Ардатовского уезда, в 1915 г. средний кружечный сбор составлял 401 руб. 65 коп., т. е. был примерно равен казенному жалованью. В мордовских селах средний сбор был для причта даже более ощутимым – он достигал примерно 500 руб. На наш взгляд, последнее позволяет сделать вывод либо о лучшем материальном положении, либо о большем распространении благотворительности в «инородческой» среде.
Распределение церквей Ардатовского уезда по кружечному доходу представлено в таблице. По нашим подсчетам, 23 % причтов собирали в храмах в течение года относительно небольшие деньги – до 200 руб. В то же время причтов, получавших от паствы в год сумму, превышавшую казенное содержание, было гораздо больше – 39,7 %.
Таблица
Размер кружечного дохода в церквях Ардатовского уезда Симбирской епархии в 1915 г.*
Table
The size of the mug income in churches Ardatov district of the Simbirsk Diocese in 1915
|
Доход, руб. / Income, rub. |
Приходов / Parishes |
|
|
абс. / abs. |
отн. / rel. |
|
|
от 1 до 100 |
6 |
5,2 |
|
от 101 до 200 |
17 |
14,7 |
|
от 201 до 300 |
22 |
19,0 |
|
от 301 до 400 |
20 |
17,2 |
|
от 401 до 500 |
13 |
11,2 |
|
от 501 до 600 |
13 |
11,2 |
|
от 601 до 1 800 |
20 |
17,2 |
|
Нет сведений / No information |
5 |
4,3 |
* Составлена по: ГАУО. Ф. 134. Оп. 2. Д. 251. Л. 1–958.
Максимальная сумма денежных средств (более 1 200 руб. в течение года) оказалась в кружках храмов, численность населения в которых превышала 3 000 чел. обоего пола, – в мордовских селах Маресево и Косогоры, а также в русском селе Резоватово. Во всех этих селах, кстати, действовали трехчленные причты.
В с. Маресево в 1915 г. в 473 дворах проживал 3 771 чел. обоего пола, которым удалось собрать на содержание духовенства 1 453 руб. (т. е. приблизительно по 3 руб. со двора). Показательно, что постановлением сельского схода от 15 октября 1915 г. маресевское общество отменило хлебный сбор в пользу церкви16. Видимо, крестьяне решили, что в сложное в материальном плане военное время они и без того выделяли церковникам немало денег.
Основанием для такого решения ма-ресевцев могло послужить солидное де- нежное вознаграждение, выплачиваемое священнослужителю. Так, годовой доход местного иерея Николая Ксенофонтова Недешева составил 1 436 руб. 73 ½ коп., в том числе: кружечный доход – 726 руб. 73 ½ коп.; земельный доход – 110 руб.; плата за преподавание Закона Божьего – 300 руб.; казенное жалованье – 300 руб.17
В с. Косогоры в 420 дворах проживали 3 370 чел. обоего пола, которые положили в расставленные в храме кружки 1 800 руб. (4,28 руб. со двора). Совокупный доход сельского пастыря Павла Петрова Лебедева составил в 1915 г. 1 649 руб. Щедрое подаяние духовенству не помешало косогорцам в 1915 г. выполнить и традиционный сбор зерном в пользу церкви на сумму 150 руб.18
В с. Резоватово в 365 дворах числилось 3 251 чел. обоего пола, которые в течение 1915 г. пожертвовали духовенству 1 250 руб. (в среднем 3,42 руб. с каждого двора). Совокупный доход местного протоиерея Петра Алексеева Невзорова составил 1 325 руб. 36 ½ коп. Относительно руги в клиро-вой 1915 г. была сделана пометка: «сборы самые незначительные»19.
Заключение
Судя по изменению структуры доходов православных причтов, во второй половине XIX – начале XX в. происходила постепенная замена натуральных форм поддержки приходского духовенства денежными сборами.
В начале XX в. на материальном положении белого духовенства, обычно прямо зависевшем от численности прихожан и благосостояния местных жителей, начали сказываться в большей мере внешние по отношению к приходу факторы. События Первой русской революции, аграрная перенаселенность и кризисные явления в экономике в годы Первой мировой войны негативно повлияли на крестьянские хозяйства, что не замедлило сказаться на уровне доходов и бытовых условиях при-чтов. Многие общины существенно сократили традиционные формы материального обеспечения духовенства, в связи с чем дальнейшее поддержание достойных бытовых условий для семей клириков стало затруднительным.
Список литературы Добровольные пожертвования в структуре доходов православных причтов во второй половине XIX - начале XX в. (по материалам Мордовского края)
- Колпакова О. В. Приходское духовенство Пензенской епархии в 1799-1917 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2022. 23 с.
- Кошелева А. И. Приходское духовенство Среднего Поволжья в 1880-е - 1890-е гг.: на примере Пензенской и Самарской епархий: автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2011. 22 с.
- Мендюков А. В. Русская православная церковь в Среднем Поволжье в 1894-1914 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2001. 19 с.
- Пастыри о пастве: Ист.-стат. описание рус. сел Пензенской губернии приходскими священниками / сост., вступ. ст., археогр. предисл., коммент., именной и геогр. указ. Т. М. Гусевой. Саранск: НИИГН, 2018. 504 с.
- Першин С. В., Шитова Т. В. К вопросу о доходности земельных участков православных причтов в начале XX в. (по материалам мордовского края) // Экономическая история. 2021. Т. 17, № 1. С. 49-57.