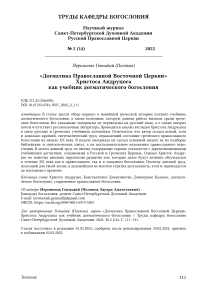"Догматика православной восточной церкви" Христоса Андруцоса как учебник догматического богословия
Автор: Поляков Эдуард Анатольевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (14), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье дается обзор первого в новейшей греческой истории полного учебника догматического богословия, а также полемики, которую данная работа вызвала среди греческих богословов. Все указанные материалы не переведены на русский язык, а о самих авторах почти отсутствует русскоязычная литература. Проводится анализ взглядов Христоса Андруцоса в свете русских и греческих учебников догматики. Отмечается, что автор создал ясный, хотя и довольно краткий, систематический труд, отражающий состояние греческого православного богословия на начало XX века. В подаче материала он сделал основной акцент не на подборке библейских и святоотеческих цитат, а на последовательном изложении православного вероучения. В целом данный труд по своему содержанию хорошо согласуется с дореволюционными учебниками догматики, созданными в Русской и Греческих Церквах. Однако Христос Андруцос не наметил никаких перспектив развития тем, которые далее будут активно обсуждаться в течение XX века как в православном, так и в западном богословии. Поэтому данный труд, полезный для своей эпохи, в дальнейшем во многом утратил актуальность, хотя и переиздается до настоящего времени.
Христос андруцос, константинос диовуниотис, димитриос баланос, догматическое богословие, современное православное богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/140294921
IDR: 140294921 | УДК: 271.22-284(495) | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_2_111
Текст научной статьи "Догматика православной восточной церкви" Христоса Андруцоса как учебник догматического богословия
About the author: Hieromonk Gennady (Polyakov Eduard Anatolyevich)
Candidate of Theology, Associate Professor at St. Petersburg Theological Academy.
The article was submitted 01.02.2022; approved after reviewing 24.02.2022; accepted for publication 02.03.2022.
Вступление
Христос Андруцос (1869–1935) родился и вырос в Малой Азии. Закончив Халкинскую богословскую школу, он проходил обучение в Лейпцигском университете. В дальнейшем он преподавал в различных греческих учебных заведениях, а в 1912 г. был назначен профессором Афинского университета. Здесь он вел такие предметы как Догматическое богословие и Христианская этика, издал различные богословские и философские сочинения, которые внесли значительный вклад в греческую научную жизнь своего времени.
Развитие догматического богословия в Греции в послевизантийскую эпоху началось с Викентия Дамодоса (1700–1752). Однако его обширный труд в свое время так и остался в рукописи и начинает публиковаться только в наше время. Важный учебник создал архиеп. Евгений (Вулгарис) (1716–1806), но в нем он охватил далеко не весь догматический материал. Обзорные сочинения по догматике, зависимые от двух предыдущих авторов, издали Антоний Мос-хопул (1713-1788) и преп. Афанасий Парийский (1721-1813). Все эти труды Ан-друцос оценивал не слишком высоко, рассматривая их как простые описания православных догматов по схоластическому методу, на основании подборки цитат, без самостоятельного исследования (Ανδρούτσος, 1907a, 30–31).
После получения Грецией независимости в течение XIX в. богословие как наука проходило в Элладской Церкви этап становления. В начале XX в. прот. Н. Малиновский отмечал жалкое положение современного ему Афинского университета и в целом греческого богословия [Малиновский, 1910, 126–127]. Однако как раз в это время в Греции стали появляться первые основательно разработанные курсы догматики. Сочинение Зикоса Росиса «Система догматики Православной Кафолической Церкви», вышедшее в 1903 г., так и осталось неоконченным, к тому же оно имело скорее полемический характер. Труд Андруцоса «Догматика Православной Восточной Церкви», изданный в 1907 г., стал первым полноценным учебником, излагающим православное вероучение в систематическом порядке.
Эта работа не осталась незамеченной. Димитриос Баланос издал небольшой отзыв, в котором представил свои замечания. Константинос Диовуниотис выступил с критическим сочинением, на которое Андруцос ответил «Догматическими исследованиями». Диовуниотис возразил ему новым сочинением, на что Андруцос ответил вторым выпуском «Догматических исследований». В конечном счете, его «Догматика» выдержала критику и стала признанным учебником. В дальнейшем она несколько раз переиздавалась, в последний раз в 2005 году. В России греческий богослов остался практически неизвестным, в современном пособии по богословию он вообще не упоминается [Давыден-ков, 2020, 33–34], а в «Православной энциклопедии» о нем нет отдельной статьи.
К тому времени, когда Андруцос приступил к написанию своего труда, в русских духовных школах был создан ряд значительных курсов догматического богословия. Однако нашему автору они были известны недостаточно полно, что отметил Баланос (Μπαλάνος, 1907, 678). На греческий язык были переведены «Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви» архиеп. Антония (Амфитеатрова) и «Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия» митр. Макария (Булгакова). Кроме того, было переведено на французский язык и доступно нашему автору обширное «Православно-догматическое богословие» митр. Макария. Об этих трудах Андруцос также был не слишком высокого мнения, считая, что они напоминают катехизисы и являются скорее собранием библейских и святоотеческих цитат, чем связным развитием целостной догматической системы (Ανδρούτσος, 1907a, 31). Ему остались неизвестны догматические курсы свт. Филарета (Гумилевского) и свт. Сильвестра (Малеванского), но если бы он их и знал, то можно предположить, что его мнение о русском богословии вряд ли бы изменилось. Не считая, разумеется, Священного Писания и святоотеческих трудов, наш автор ссылался в основном на сочинения немецких католических и протестантских авторов XIX в., особенно Фридриха Нича, Матиаса Шибена, Франца Дирингера. Конечно, из них он старался отобрать только тот материал, который соответствовал православному Преданию, но в целом влияние западных догматистов на него было довольно сильным. Также он активно использовал символические книги Православной Церкви, считая их точным выражением истинного вероучения и не подвергая какому-либо критическому переосмыслению. Характерно, что он почти не упоминал труды поздневизантийских авторов, ограничиваясь только сочинениями эпохи Вселенских Соборов.
Содержание «Догматики Православной Восточной Церкви»
Касаясь прежде всего основания догматического богословия, Андруцос указывает, что им является Божественное Откровение, которое состоит из двух равных по авторитетности источников, а именно Писания и Предания. Священное Писание было создано под непосредственным воздействием Святого Духа и совершенно лишено ошибок и противоречий. Его богодухновенность не может относиться только к каким-то отдельным аспектам или частям, но охватывает все содержание без исключения. Богодухновенность не следует сводить к дословному диктанту с исключением всякого активного участия священных писателей, поскольку различные книги Библии имеют свои особенности в стиле изложения и языке. Предание же является письменной фиксацией проповеди Христа и апостолов, а также разъяснением и систематическим раскрытием тех истин, которые заложены в Писании (Ανδρούτσος, 1907a, 3–8). Наш автор отвергает теорию догматического развития, признавая только возможность более полного раскрытия и лучшего формулирования уже данных Богом истин, но не выработку новых (Ανδρούτσος, 1901, 98–99). Отвергает он и поддерживаемое Баланосом (Μπαλάνος, 1907, 677) мнение, что богословие должно целиком основываться на Писании, поскольку Предание содержит истины, которые отсутствуют в Библии и переданы Церкви через устную проповедь. Важно только, чтобы Предание было основано на надежных древних источниках, не допускающих внесения в учение Церкви произвольных, высказанных впоследствии мнений (Ανδρούτσος, 1908, 33–35).
Божественное Откровение как источник наших знаний о Боге и творении, пишет Андруцос, человек может воспринять только верой. Греческий богослов однозначно отвергает рационализм как попытку постигнуть догматические истины исключительно умственной деятельностью. Однако эти истины, хотя и превышают способности разума, не противоречат ему в том случае, если он не переступает свои естественные пределы. Разум необходим для того, чтобы более глубоко усвоить эти истины, их ясно сформулировать, систематизировать и защитить от противников. Действие же Святого Духа на данном этапе состоит не в положительном вдохновении, как при создании Писания, а только в сохранении Церкви от богословских ошибок. В результате появляется догматика как плод синергии Бога, человеческой веры и разума (Ανδρούτσος, 1907а, 12–15). Наш автор правильно указывает на место разума в богословии, однако недооценивает значение воздействия благодати, в результате чего догматика у него превращается в науку, в которой ум просто обрабатывает данные Откровения, превращая их в стройную систему. Такой подход хорошо соответствует русским дореволюционным догматическим учебникам. В то же время такие греческие богословы, как Дамодос [ДацоЗо^, 2013, 60-63], архиеп. Евгений [Ευγένιος Βούλγαρης, 1872, 14–17] и преп. Афанасий [Αθανάσιος, 1806, 7–9], подчеркивали, что всякий приступающий к богословию должен очистить свое сердце от страстей и быть просвещенным Святым Духом, т.е. обращали внимание и на духовно-нравственную сторону вопроса.
Догматическое богословие является научной дисциплиной и поэтому не может, по мнению Андруцоса, представлять из себя бессистемный сборник мыслей по различным темам. Весь материал должен быть расположен в определенной последовательности и подобно членам тела представлять собой единое целое, концентрирующееся вокруг ключевой идеи. Такой идеей не может быть учение о Боге, о Христе или о Церкви, но только практическая мысль, выражающая основу нашего спасения. Поэтому наш автор разделяет свой труд на две большие части: предпосылки искупления, совершенного Христом, и, собственно, само искупление. В первую часть он включает учение о Боге, о творении мира и его первоначальном устройстве вплоть до грехопадения человека, а во вторую — учение о Христе и совершенном Им искуплении, о благодати, Церкви, таинствах и конечных судьбах мира (Ανδρούτσος, 1907а, 25–28). Подобный план не является характерным для православного богословия, — в догматике в основном принято ставить в центр исследования понятие о Боге и, соответственно, разделять весь материал на учение о Боге в Самом Себе и учение о Боге как Творце, Промыслителе и Спасителе мира.
Изложение учения о Боге Андруцос, по сложившейся академической традиции, начинает с учения о единой сущности и ее свойствах, а не с триадо-логии. Бог, пишет греческий богослов, во всей Своей сущности непостижим, слабое же и несовершенное представление о Нем мы можем получить разумом через исследование творения, т. е. мира и человека, и через принятие верой Откровения, подаваемого в Иисусе Христе. В будущей жизни мы получим возможность непосредственного созерцания Господа таким, каков Он есть, на земле же мы можем иметь о Нем только знание, получаемое по аналогии с совершенствами тварного мира. В отношении доказательств бытия Божьего наш автор указывает, что они не могут заменить в человеке веру, но помогают уяснить существование Бога с естественной и нравственной точки зрения, и в этом качестве должны иметь место не в догматическом богословии, а в философии или апологетике (Ανδρούτσος, 1907a, 33–42). Обсуждая пути познания Бога, он никак не упоминает православное учение о различии между Божественной сущностью и энергией и в целом не выражает никакого интереса к мистическому богословию. Подобной подход был характерен для духа, который господствовал в то время в западном и восточном богословии. Из предшественников нашего автора Дамодос старался возродить и защитить от критики учение о нетварных энергиях, в подробности разработанное в поздневизантийскую эпоху [ЛацоЙод, 2013, 170-228], упоминал о различии между сущностью и энергией в Боге и преп. Афанасий [Αθανάσιος, 1806, 64–65].
На нашем пути постижения Божественных свойств Андруцос указывает два основных метода. Либо можно рассматривать Бога как непричастного всем несовершенствам мира, либо как являющегося его Первопричиной и содержащего в Себе все его совершенства. В первом случае мы используем метод отрицания, во втором — утверждения. Что же касается еще одного популярного у богословов метода, при котором производится восхождение от ограниченных совершенств мира к их абсолютному содержанию в Боге, то по этому поводу наш автор замечает, что он является только улучшением и дополнением второго (Ανδρούτσος, 1907, 47–48). Русские дореволюционные догматисты, касавшиеся данного вопроса, признавали три метода познания Божественных свойств [Сильвестр Малеванский, 1892, 281-282; Малиновский, 1910, 166]. В то же время Дамодос принимал только апофатический и катафатический методы [Δαμοδός, 2013, 94–98], которые являются ведущими и в наше время, так что Андруцос в данном случае оказался ближе к современному богословию.
Андруцос разделяет свойства Божественной сущности на три разряда: природы, разума и нравственности. К природным он относит вездеприсут-ствие, вечность и всемогущество, к умственным — всеведение и мудрость, к нравственным — святость, праведность и любовь. Беспредельность или абсолютность как самостоятельное свойство он отвергает, поскольку это не отдельное качество, а особая форма всех свойств, характеризующихся своей неограниченностью (Ανδρούτσος, 1907a, 50–52). Подобное разделение в целом соответствует подходу дореволюционных догматистов, однако классификацию у нашего автора нельзя признать достаточно полной. Он никак не отметил такие свойства Божьи как, например, самобытность, неизменяемость, духовность и блаженство.
Излагая традиционное учение о Святой Троице, Андруцос особое внимание уделяет вопросу об исхождении Святого Духа. Он предлагает привычные аргументы против западного учения, которые имеются и у других дореволюционных догматистов: свидетельства Писания, Соборов и святых отцов, различение предвечного исхождения Духа от Отца и посланничества Его в мир через Сына, недопустимость смешения в Боге свойств природных, принадлежащих одинаково всем Лицам, и ипостасных, которые могут принадлежать только одному Лицу. Касаясь выражения «через Сына», он замечает, что его ни в коем случае не следует понимать как дарование Сыном бытия Святому Духу, но только в том смысле, что Сын не хронологически, 116 Труды кафедры богословия № 2 (14), 2022
но логически рождается прежде Духа, а затем становится посредником в исхождении Духа, поскольку Дух исходит от Отца и воссияет через Сына (Ανδρούτσος, 1907a, 80–86).
Творение мира, пишет Андруцос, совершилось из ничего непосредственным воздействием всемогущей Божественной воли. Сначала Господь произвел бесформенное и неорганизованное вещество, а затем из него создал мир, начиная от менее совершенных видов и восходя к более совершенным. При этом наш автор понимает сложность вопроса о процессе происхождения мира и уклоняется от его однозначного разрешения. Он склоняется к мысли о творении не в один момент времени, но с определенной постепенностью. Однако продолжительность этого процесса и его стадии не могут быть однозначно определены, поскольку естественные науки не знают законов и обстоятельств, в которых происходило творение и развитие Вселенной (Ανδρούτσος, 1907a, 109–112). Если дореволюционные догматисты однозначно защищали буквальную историческую достоверность библейского шестоднева, то наш автор высказывается более осторожно и в этом отношении находится ближе к современному подходу.
Андруцос пишет, что Библия в своем замысле имела исключительно религиозный характер. Ее содержание приспособлено к идеям и восприятию людей своего времени, а цель при описании творения состояла только в усвоении создания всего мира Богу, но не в изображении всех его деталей с научной точки зрения, поэтому она может и не соответствовать современным научным данным (Ανδρούτσος, 1907a, 111). Диовуниотис (Δυοβουνιώτης, 1907, 8) и Баланос (MnaXavog, 1907, 683) указывали, что эта мысль противоречит мнению автора о полной богодухновенности Писания во всех его частях. Андруцос в ответ на критику объяснял, что Писание богодухновенно и безошибочно, просто многие места Библии следует понимать не буквально, а аллегорически (Ανδρούτσος, 1907b, 37–38). Однако отсутствие подробных разъяснений нашего автора оставляет недоумение в вопросе о том, насколько буквально, с его точки зрения, можно понимать изложенные в Библии исторические события.
Промысел Божий Андруцос подразделяет на деятельность по сохранению мира и по управлению им. Он не принимает выделение третьего рода деятельности, которое присутствует у некоторых русских догматистов [Макарий Булгаков, 1883a, 516], хотя и отрицается другими [Малиновский, 1903, 205], а именно синергии или содействия естественным силам творений. Наш автор указывает, что нельзя отделять в творениях силы от их сущности. Воздействуя на мир, Бог сохраняет его целостным образом, в том числе и в отношении свободной деятельности человека, что же касается результатов этих действий, то они относятся уже к сфере Божественного управления миром (Ανδρούτσος, 1907a, 112–113).
Свой рассказ о сотворенных существах Андруцос начинает с описания ангелов. Отвергая современные рационалистические теории, он находит существование духовного мира вполне возможным и логичным, но, в отличие от Росиса [Ρώσης, 1903, 389], не считает его бытие обязательно необходимым, поскольку это противоречило бы свободе Божественной воли. Он склоняется к представлению об ангелах как чистых духах, совершенно бестелесных и невещественных, хотя не осуждает и мнение некоторых отцов о тонкотелесной, воздушной или эфирной их природе. Соответственно, бесполезным было бы рассуждать о месте сотворения или постоянного пребывания ангелов, поскольку они, хотя и не вездесущи, свободно перемещаются во всем мире, и небо не может быть названо таким местом в том смысле, в каком люди связаны с землей. Своим умом и могуществом ангелы значительно превосходят людей. Наш автор признает необходимым существование среди духов определенных степеней в зависимости от формы их служения и близости к Богу, приводя традиционную девятичинную иерархию (Ανδρούτσος, 1907a, 123-126). Мысль об отсутствии постоянного места пребывания ангелов нехарактерна для православного богословия и может рассматриваться только как частное мнение автора.
Рассуждая о природе человека, Андруцос однозначно придерживается учения о дихотомии, считая душу и дух взаимозаменяемыми понятиями. Нашу нетелесную природу можно назвать душой в отношении ее животной и обращенной к земле стороны и духом в ее разумной и обращенной к Богу составляющей. В вопросе о происхождении души наш автор придерживается компромиссной точки зрения, считая, что теории непосредственного творения Богом и рождения от родителей имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому лучше учить о происхождении человека в результате творческого Божественного воздействия во время его рождения от родителей (Ανδρούτσος, 1907a, 131-136). В данных вопросах греческий богослов согласуется с большинством русских догматистов, за исключением свт. Сильвестра, который поддерживал теорию непосредственного творения души Богом [Сильвестр Малеванский, 1889, 335–339].
Описывая первоначальное состояние человека, Андруцос старается не уклоняться в крайности, характерные для инославных. Прародители были сотворены в полном соответствии с замыслом Творца. В их природу не было заложено потенциальной дисгармонии, которую нужно было бы сдерживать воздействием благодати. Однако это совершенство было только первоначальным, оно нуждалось в дальнейшем развитии и укреплении. Наш автор принимает встречающееся у многих отцов различие между образом Божиим, данным человеку изначально, и подобием, которое должно было быть достигнуто в результате совершенствования при содействии благодати. При этом образ Божий состоит не в телесной составляющей человека, а в его разуме и свободной воле, направленных в своем стремлении к Богу и всякому добру, а также в его царственном положении над всей природой (Ανδρούτσος, 1907a, 136–144). Следует отметить, что представление нашего автора относительно образа Божьего отличается узостью, поскольку даже русские дореволюционные догматисты в той или иной степени включали в формирование образа Божьего всю природу человека [Макарий Булгаков, 1883а, 456], еще более эти представления расширились в современном богословии.
Рассказывая о состоянии человека после грехопадения, Андруцос также старается избежать крайних точек зрения. Образ Божий в нас поврежден, наша природа во всех своих частях подверглась тлению, а не только утратила 118 Труды кафедры богословия № 2 (14), 2022
данную извне первоначальную благодать. Однако нельзя говорить и о том, что человеческая природа полностью извращена, поскольку в ней остались естественные начала добра, которые, хотя сами по себе и не достаточны для спасения, все же помогают нам подготовиться к возрождению в таинстве Крещения. Наш автор отвергает учение о вменении греха Адама лично каждому человеку, считая, что вина за первородный грех возлагается только на нашу развращенную природу, но не на личность, потому что в последнем случае необходимым было бы участие свободной воли (Ανδρούτσος, 1907a, 152–157). При этом греческий богослов склоняется к тому мнению, что Богородица приобщилась, как и все люди, первородной испорченности природы, однако единственная из всех святых не имела лично совершенных грехов (Ανδρούτσος, 1901, 173). Русские дореволюционные догматисты обычно не касались последнего вопроса, архиеп. Евгений находился в согласии с нашим автором [Ευγένιος Βούλγαρης, 1872, 551–554], в современном православном богословии также широко распространено мнение о ее чистоте от всех личных грехов.
Излагая учение о домостроительстве нашего спасения, Андруцос отвергает высказывавшееся некоторыми святыми отцами мнение, согласно которому Боговоплощение было необходимо для приведения сотворенного мира и человека к совершенству и поэтому произошло бы независимо от грехопадения прародителей. Он указывает, что единственной целью пришествия в мир Сына Божьего было избавление от греха, а без этого оно становится бессмысленным (Ανδρούτσος, 1907a, 168–169). Архиеп. Евгений [Ευγένιος Βούλγαρης, 1872, 557], Мосхопул [ Μ οσχ ό πουλος , 1851, 210] и прп. Афанасий [Αθανάσιος, 1806, 286] придерживались того же мнения, что и наш автор, тогда как русские дореволюционные догматисты обычно не касались этого вопроса, поскольку для них целью воплощения подразумевалось избавление от греха.
Раскрывая традиционную христологию, Андруцос касается вопроса относительно объема имеющегося у человеческой природы Спасителя знания. Хотя и ограждаемое Откровением от всякой ошибки, человеческое сознание Иисуса развивалось естественным образом по мере Его взросления и становления Личности. Он пользовался Своим умом и чувствами, воспринимая окружающий мир и постепенно приобретая все больший жизненный опыт. По человеческой природе Его знание и сейчас является ограниченным, но благодаря ипостасному соединению Христос обладает всеведением. В конечном счете, как подчеркивает наш автор, понимая трудность проблемы, отношение между знанием Господа по Его Божеству и человечеству во всей своей сложности остается для нас до конца не постижимым (Ανδρούτσος, 1907a, 181–182; 1907b, 95-99). Эти мысли вызвали возражение Диовуниотиса, который старался доказать полноту знания и отсутствие развития во Христе по человечеству с момента Боговоплощения [Δυοβουνιώτης, 1907, 35–36]. В данном случае наш автор имеет согласие с русскими дореволюционными догматистами, также подчеркивавшими ограниченность человеческой природы Спасителя, тогда как Диовуниотис выражает мнение, отразившееся в трудах греческих богословов — архиеп. Евгения [EuY^viog Вои^арпд, 1872, 534-535], Мосхопула [ М осх о пои^о^, 1851, 213-215] и преп. Афанасия [A0avaaiog, 1806, 330].
Андруцос изображает процесс спасения человеческого рода прежде всего как искупительную Жертву Иисуса Христа на кресте, через которую Он принял на Себя наказание, которое заслуживали люди. Он отвергает крайности схоластического учения по этому вопросу, усвоенные и некоторыми русскими дог-матистами [Антоний Амфитеатров, 1862, 167–168; Макарий Булгаков, 1883b, 148–150]: теорию о крестной Жертве как удовлетворении оскорбленной чести разгневанного Бога, а также как о преизбыточествующей заслуге, которая с излишком покрывает полагающиеся за все наши грехи наказания и составляет ныне как бы особую сокровищницу. Греческий богослов признает, что наш ум не может постичь, почему Бог не мог простить человека без требования удовлетворения за грех, и как смерть невинного Богочеловека может вмениться всем виновным людям. Тем не менее он настаивает, что эта Жертва по сути была необходима, и что искупление нельзя истолковать в рамках нравственной теории, т. е. только как выражение совершенной любви Бога к человеку (Ανδρούτσος, 1907a, 196–204).
Учение о спасении Андруцос сосредотачивает вокруг первосвященнического служения Иисуса Христа. Касаясь Его царского служения, наш автор говорит о событиях сошествия во ад, воскресения, вознесения и воцарения одесную Отца почти исключительно как о событиях, послуживших прославлению Господа после Его униженного состояния в земной жизни (AvSpouTCTog, 1907a, 211-217). При этом аспект обожения человеческой природы как один из важнейших в деле нашего спасения греческим богословом полностью игнорируется. В этом отношении он оказался даже не на уровне других дореволюционных догматистов, у которых данный аспект, хотя и не особенно полно, но отражался.
Андруцос старается избегать слишком сложного дробления различных этапов воздействия благодати на обращающегося к Богу, выделяя только три главных момента: обращение или приготовление, оправдание или освящение, конечное прославление. Он указывает на искусственность разделения оправдания и освящения на два отдельных этапа, поскольку это единый процесс изменения человека при его вступлении в Церковь, охватывающий и внутреннее преображение, и приобретение внешней праведности (Ανδρούτσος, 1907a, 228–237). Все эти мысли греческий богослов направляет прежде всего против протестантов, выработавших в данной области многочисленные отклонения от святоотеческого учения. Он старается следовать православной традиции, сложившейся в его время, но в целом его сотериология односторонне строится на учении об оправдании и усвоении искупительных плодов крестной Жертвы и имеет явный юридический привкус.
Переходя к экклезиологии, Андруцос прежде всего отмечает, что до сих пор православное богословие не выработало однозначного безукоризненного определения Церкви. Почти все попытки сформулировать ее сущность грешат односторонним подчеркиванием ее внешних признаков, таких как вероучение, иерархия, обряды, и мало касаются описания ее внутреннего содержания. Греческий богослов дает свое определение: «Церковью называется священное учреждение, основанное вочеловечившимся Словом Божиим для спасения и освящения людей и несущее Божественную силу и Его авторитет, состоящее из людей, имеющих одну веру и участвующих в одних таинствах, разделяющихся же на народ и управляющее духовенство, возводящее свое начало через непрерывное преемство к апостолам и через них к Господу» (AvSpouTCTog, 1907a, 260-262). Можно отметить, что как бы наш автор не старался избежать указанного им недостатка, его определение также страдает односторонним подчеркиванием внешних признаков Церкви и ничего не говорит о ней как о благодатном Теле Христовом.
Отсюда характерно, что Андруцос, описывая первое свойство истинной Церкви, говорит только о единстве в вере и управлении, игнорируя ее мистическую сущность (AvSpouTCTog, 1907a, 274-276). Кафолической же Церковь он называет, поскольку она распространена по всему миру и, в отличие от еретиков и раскольников, опять же хранит единство истинной веры и управления, позволяющее поддерживать связь между местными церквами (Ανδρούτσος, 1907a, 279-281). Греческий богослов упускает понимание внутреннего содержания Церкви как целостного организма, в котором каждая часть содержит благодатные дары при условии союза со вселенской полнотой.
Андруцос учит о Церкви как орудии, через которое Христос совершает Свою спасительную миссию. Только через Церковь Господь подает благодать, открывает полноту истины и управляет всеми верующими. Следовательно, вне Церкви невозможно достичь спасения и блаженства, однако наш автор тут же оговаривается, что люди, непроизвольно и по не зависящим от них обстоятельствам оказавшиеся вне Церкви и подверженные заблуждениям, могут рассчитывать на снисходительный Божий суд, результаты которого не может заранее решать никто из людей. Также и отлученные от Церкви и искренне покаявшиеся, если они по внешним причинам формальным образом не успели в нее вернуться, могут получить прощение подобно покаявшемуся на кресте разбойнику. Церковь является только регулярным инструментом спасения, не исключающим чрезвычайных действий благодати за ее пределами (AvSpouTCTog, 1905, 50-53; 1907a, 264-267; 1907b, 128-129). Русские дореволюционные пособия по догматике, как правило, без всяких исключений указывали, что вне Церкви нет спасения, хотя были и мнения, согласные с мыслью нашего автора [Малиновский, 1909a, 584-586], так что учение греческого богослова ближе к распространенному в наше время более терпимому подходу.
Андруцос указывает на принципиальное различие между степенями епископов и пресвитеров. Если в Новом Завете эти наименования и были взаимозаменяемыми, то это явление относилось только к их названию, но не к сущности. Епископы получают дар быть непогрешимым органом действия Святого Духа в догматических и нравственных вопросах, но только тогда, когда они на Вселенских Соборах выносят решения, которые получили одобрение всей полноты Церкви. Опасаясь протестантского учения о равном священстве у всех христиан, греческий богослов проводит резкую грань между духовенством и мирянами, отрицая у последних какое-либо священническое достоинство, даже первоначальной степени. Слова Библии о «царственном священстве» (1 Пет 2:9) всех верующих он истолковывает в том смысле, что из народа как в Ветхом, так и в Новом Завете избирались люди, специально предназначенные для священнослужения (Ανδρούτσος, 1907a, 283–292).
В учении о таинствах наш автор подобно современным ему догматистам также единственными их совершителями называет епископов и пресвитеров, никак не упоминая о соучастии мирян.
Переходя далее к учению о таинствах, Андруцос касается вопроса о степени их действительности в зависимости от статуса совершителя. Крещение, совершенное нехристианином, Православная Церковь признает недействительным, поскольку оно не может производиться механически, без веры. Что же касается действительности таинств, совершаемых инославными, то наш автор однозначно отвергает действие благодати Святого Духа в таинствах вне Православной Церкви, даже при точном соблюдении всех обрядовых форм. Для него все католики, протестанты, нехалкидониты и прочие христианские общества являются еретиками, а вне границ Православия начинается безблагодатная пустыня. При этом наш автор констатирует, что Православная Церковь, вопреки этому теоретическому взгляду, в практике как греческой, так и русской традиции все-таки нередко признавала такие таинства действительными. Это противоречие он пытается разрешить через учение об икономии, согласно которому Церковь как сокровищница благодатных даров имеет право в определенных обстоятельствах решить не совершать таинства во время приема присоединяющихся к ней инославных. Греческий богослов отвергает мнение, согласно которому действительно совершающиеся вне Церкви таинства она только оживотворяет и делает спасительными, но считает, что она имеет власть прежде недействительные таинства при приеме присоединяющихся сделать по природе действительными (AvSpouT^o^, 1907a, 300-309). Таким образом, наш автор разделяет теорию икономии, широко распространившуюся в XIX–XX вв., но не принятую русскими дореволюционными догматистами, которые совершаемые инославными таинства при определенных условиях все-таки признавали действительными.
Андруцос придерживается ставшего уже традиционным в его время учения о числе таинств. Хотя при этом он признает, что их точный перечень отсутствует в Библии и Предании Древней Церкви. Он объясняет это тем, что Писание не является систематическим изложением богословия, а Церковь по мере необходимости может уточнять свое учение, тем более что семь таинств уже прочно вошли в ее практику. При этом наш автор четко отделяет таинства от других священнодействий, которые носят характер субъективного воздействия на христианина с целью укрепления его веры и совершаются не так объективно, как таинства (Ανδρούτσος, 1907a, 314–318).
Рассматривая отдельные таинства, Андруцос дает некоторым из них явно недостаточные определения, на что указывают и его критики — Диовуниотис (AuoeouviWTng, 1907, 53) и Баланос (MnaXavog, 1907, 699). Эти определения упускают некоторые основополагающие элементы таинств и являются менее совершенными, чем те, которые дают русские догматисты. Под Крещением наш автор понимает «Богоустановленный обряд, через который погружаемый в воду возрождается духовно» (Ανδρούτσος, 1907a, 318). В этом определении не упоминаются ни совершители таинства, ни его важнейшие слова. Описывая суть происходящего в таинстве Крещения, Андруцос фактически отождествляет его с оправданием. Он только вскользь упоминает о том, что в этом таинстве истребляется тело ветхого человека с первородным и личными грехами, возрождается новый святой человек, Духом Святым оживляется душа, дается дар быть чадом Божьим, членом таинственного Тела Христова и наследником вечной жизни. Содержание всех этих понятий в дальнейшем никак не раскрывается. Более подробно греческий богослов пишет только о наклонности ко греху, которая в невозрожденном передается от прародителей и носит характер вины и наказания, а в крещенном утрачивает свой греховный характер и остается как объект аскетических усилий с целью нравственного совершенствования (Ανδρούτσος, 1907a, 320–324).
Обязательным условием признания таинства Крещения совершившимся, пишет Андруцос, является призывание имени Святой Троицы. Что же касается формы соединения крещаемого с водой, то правильным является троекратное полное погружение. Именно так совершалось таинство в Церкви изначально. Обливание же и окропление использовались в исключительных случаях, когда не было возможности совершить полный чин. Именно эти исключения являются основанием и для принятия инославных в лоно Православной Церкви без перекрещивания, из снисхождения к ним. Но подобное снисхождение не является признанием таинств вне Православия имеющими действительную силу, просто искажение нормальной формы их совершения в этом вопросе не имеет абсолютного значения. Во время жизни нашего автора в греческой традиции, в отличие от русской, практиковалось принятие инославных как через таинство Крещения, так и Миропомазания. Сам он склоняется к тому, что правильнее было бы принимать инославных через помазание миром, без перекрещивания (Ανδρούτσος, 1907a, 330–333). В данном случае подход нашего автора соответствует поддерживаемой им теории икономии в отношении инославных таинств.
Миропомазание Андруцос определяет как «Богоустановленный обряд, через который при помазании членов крещеного начавшаяся духовная жизнь укрепляется и совершенствуется» (AvSpouT^o^, 1907a, 336). Диовуниотис правильно указывает, что в данном определении не упоминаются ни совершитель, ни вещество таинства (AuoeouviWTng, 1907, 55). Содержание таинства в сочинении нашего автора также описывается только в минимальном объеме. По его словам, оно состоит в укреплении и возрастании духовной жизни новопросвещенного. Родившись во Христе духовно в таинстве Крещения, верующий нуждается в развитии этой новой жизни и личном усвоении тех даров, которые он уже получил. Для этого ему нужна животворящая благодать Святого Духа, помогающая в борьбе с искушениями и формирующая в нем образ Христов (Ανδρούτσος, 1907a, 339). Таким образом, наш автор выделяет в качестве главной цели таинства Крещения не соединение со Святым Духом, как у русских догматистов, а более глубокую связь со Христом.
Рассматривая таинство Миропомазания, Андруцос касается проблемы замены первоначальной формы его совершения через возложение рук на помазание святым миром. Первое толкование этого факта, которое состоит в том, что Церковь со временем заменила возложение рук на помазание, он отвергает, поскольку она не допустила бы изменения апостольского установления. Второе, согласно которому апостолы одновременно использовали возложение рук и помазание, он также отвергает, называя его католическим, поскольку Западная Церковь и сейчас совмещает в таинстве оба эти действия. Третье же, согласно которому апостолы, изначально использовавшие возложение рук, в дальнейшем при умножении Церкви заменили его на помазание, доверенное всем епископам и пресвитерам, он, подобно русским дореволюционным догматистам, признает правильным (Ανδρούτσος, 1907a, 338–339).
Евхаристию Андруцос определяет как «Богоустановленное таинство, в котором под видами хлеба и вина действительно и существенно присутствует Иисус Христос, как для причастия верных, так и для действительного и бескровного изображения Его крестной Жертвы» (AvSpouT^o^, 1907a, 344). Рассуждая о способе Его присутствия, наш автор отождествляет в данном случае учение Православной и Католической Церквей. Если на Востоке пользовались терминами «преложение» и «претворение», то Запад выработал понятие «пресуществление», стараясь выразить, по сути, ту же мысль о замене сущностей хлеба и вина на Тело и Кровь Христовы при сохранении прежнего внешнего вида. Только эту замену нельзя понимать слишком материально, как замену каждой частицы веществ на частицу Тела и Крови, но духовно, подобно тому, как душа неразделимо пребывает во всем человеческом теле. Учение о совместном существовании хлеба и вина с Телом и Кровью в одних и тех же Дарах наш автор отвергает, указывая, что это учение исповедуют лютеране (Ανδρούτσος, 1907a, 345–354). Критикуя его, Диовуниотис указывал, что католическая теория основана на ошибочных предпосылках, поскольку предполагает, что сущность вещи можно полностью отделить от ее свойств, так что не воспринимаемые нами сущности Тела и Крови Христовых в таинстве могут сочетаться со свойствами совсем других сущностей, а именно хлеба и вина. На самом деле, по его мнению, в таинстве хлеб и вино полностью и без остатка прелагаются в Тело и Кровь, и если и можно в данном случае использовать термин «пресуществление», то только для того, чтобы указать, что Христос действительно присутствует в Евхаристии, но не для того, чтобы объяснить способ этого присутствия (Δυοβουνιώτης, 1908, 142–146). Баланос согласился с точкой зрения Андруцоса (MnaXavog, 1907, 700-702), дореволюционные догматисты также имели согласие с его мнением.
Описывая внешнюю форму совершения таинства Евхаристии, Андруцос, как отмечает Фельми, почти не касается ее литургических аспектов, ограничиваясь научно-теоретическими вопросами [Фельми, 1999, 214–215]. Впрочем, это замечание можно было бы отнести к изложению греческим богословом и всех остальных таинств. Наш автор указывает, что таинство Евхаристии совершается после призывания Святого Духа в момент благословения хлеба и вина. Цитированием слов Спасителя священник только повествует о событиях Тайной Вечери, но не совершает само таинство, как об этом учит Католическая Церковь (Ανδρούτσος, 1907a, 363–364). Однако данный взгляд греческого богослова представляется слишком узким, русские дореволюционные дог-матисты скорее склонялись к тому, чтобы не связывать процесс совершения таинства только с благословением священником хлеба и вина, но распространять его на всю центральную часть Евхаристического канона [Малиновский, 1909b, 149–150; Филарет Гумилевский, 1865, 272–273].
Таинство Покаяния Андруцос определяет как «Богоустановленное действие, в котором Бог через священника отпускает совершенные после Крещения грехи искренне кающихся и исповедующих их священнику» (Ανδρούτσος, 1907a, 376). Иерея, совершающего таинство, он рассматривает как судью, получившего Божественное право связывать и разрешать кающегося. Только если мирской судья обладает властью как оправдать, так и осудить, то духовник может только оправдать, поскольку неразрешение от грехов есть постановление исключительно отрицательное. Конечно, нельзя забывать, что прощение в таинстве подается священником с молитвой к Богу о прощении, поскольку таинство совершает Сам Господь, но при этом и духовник обладает юридической властью над кающимся, так что грехи отпускаются человеку Богом через Своего законного представителя (AvSpouT^o^, 1907a, 382-383). Таким образом, таинство Покаяния греческий богослов рассматривает преимущественно с правовой точки зрения, на что обратил внимание Баланос, который отметил, что нельзя мирской суд, имеющий юридический характер, сравнивать с нравственным судом духовника (Μπαλάνος, 1907, 703). В целом, рассуждения нашего автора соответствует подходу русских дореволюционных догматистов, которые также подчеркивали власть священника над кающимся, хотя не исключали совсем и пастырско-духовнических элементов.
Раскрывая порядок совершения таинства Покаяния, Андруцос задается вопросом о том, может ли только внутренне кающийся получить от Бога разрешение от грехов без внешней устной исповеди. Католические богословы допускают прощение грехов в результате одного раскаяния при условии, что человек желает при первой же возможности прийти на исповедь. Русские дореволюционные догматисты или не касались этого вопроса, или склонялись к отрицанию такой возможности, считая, что само по себе раскаяние только готовит христианина к принятию прощения, но непосредственно не влечет его [Малиновский, 1909b, 253]. Наш автор признает, что в Православной Церкви нет официального решения по этому вопросу. Если кающийся вообще не стремится к исповеди, то он не может получить непосредственно от Бога прощение грехов. В случае же четко выраженного стремления нашему автору католическое допущение кажется вполне приемлемым, но несущим в себе опасность протестантского отрицания необходимости устной исповеди. В конечном счете, он считает этот вопрос недоступным человеческому знанию (Ανδρούτσος, 1907a, 387–388).
Таинство Священства Андруцос определяет как «Богоустановленный обряд, в котором через молитву и возложение рук епископа нисходит Божественная благодать, проручествующая ставленника в одну из трех священных степеней» (AvSpouT^o^, 1907a, 389). Это определение никак не обозначает подаваемых в хиротонии дарований. Далее наш автор только бегло упоминает о том, что священство получает способность непогрешительно проповедовать Слово Божие, совершать таинства и управлять христианским обществом, не раскрывая эту тему (AvSpouT^o^, 1907a, 390), тогда как в русских дореволюционных учебниках она была изложена достаточно подробно.
Говоря о неповторяемости таинства Священства, Андруцос касается важного различия между греческой и русской практикой в вопросе лишения сана. Он указывает, что рукополагаемый принимает особое воздействие благодати, налагающей на него неизгладимую печать. Независимо от своего нравственного состояния и поведения он уже никогда не способен утратить ее и поэтому не может принять повторное рукоположение или стать мирянином. Поэтому наш автор неодобрительно отзывается о практике Русской Церкви, в которой возможны лишение сана или добровольный отказ от него (Ανδρούτσος, 1901, 329; 1907a, 391). В данном случае он следует традиции своей Церкви, отличающейся от того, что высказывали русские догматисты [Малиновский, 1909b, 303–308].
Рассматривая вопрос о действительности хиротоний священнослужителей, отделившихся от Православной Церкви, а также получивших священный сан за ее пределами, Андруцос отмечает, что, как и в случае с таинством Крещения, практика в Православии не всегда была одинаковой. Но если даже рукоположенных вне Церкви при их приеме и признают в сущем сане, то делается это по икономии, из снисхождения (Ανδρούτσος, 1907a, 391–394). При таком условии наш автор, в частности, был готов признать хиротонии священнослужителей, перешедших в Православие из Англиканской Церкви (Ανδρούτσος, 1903, 82–83). Таким же образом, по икономии, Церковь при вступлении в нее признает и совершаемые за ее границами браки (Ανδρούτσος, 1907a, 399).
Под таинством Брака Андруцос понимает «священнодействие Божествен -ной власти, в котором свободно сочетающимся через священника подается благодать Святого Духа, освящающая и вместе с тем возвышающая в противном случае только естественный брачный союз» (Ανδρούτσος, 1907a, 396). Данное определение не раскрывает понятие о христианском браке как вечном духовном единении любви по образу союза Христа и Церкви. Наш автор правильно указывает, что естественный брак, заложенный в самой природе человека, через воздействие благодати получает одухотворенный характер, но в целом суть таинства, в отличие от русских дореволюционных учебников, подробно не раскрывается.
Елеосвящение Андруцос определяет как «таинство Божественной власти, в котором при помазании больного елеем нисходит Божественная благодать, исцеляющая его телесные и душевные болезни» (Ανδρούτσος, 1907a, 401). Диовуниотис правильно замечает, что здесь не упоминаются совершители таинства и молитва о выздоровлении (AuoeouviWTng, 1907, 61). Главным результатом таинства, как пишет наш автор, должно стать телесное исцеление больного, а потом уже, во вторую очередь, прощение грехов. Об этом свидетельствует и прямой смысл слов Послания апостола Иакова (Иак 5:14). Мнение, согласно которому главной целью таинства является прощение грехов, а также ограничение возможности телесного исцеления только теми болезнями, которые стали следствием грехов, он относит к католическому влиянию на православных богословов (Ανδρούτσος, 1907a, 403–405). Русские догматисты в данном случае учат согласно с его мнением, так что эту критику наш автор мог отнести только на счет некоторых греческих богословов. Так, в частности, Баланос считал, что главной целью таинства является душевное здоровье, подаваемое через прощение грехов, тогда как телесное выздоровление второстепенно и происходит далеко не всегда (Μπαλάνος, 1907, 704–705).
Хотя преп. Афанасий главной целью Елеосвящения также считал телесное здоровье [Αθανάσιος, 1806, 383].
Переходя к эсхатологии, Андруцос описывает состояние души человека после смерти. Учение о мытарствах, вопреки мнению русских догматистов, он считает частным мнением некоторых отцов, допустимым, но лишенным авторитета догмата. Земную жизнь он рассматривает как исключительное поприще нравственной деятельности человека, а посмертное состояние как пассивное, лишенное развития, восприятие наград и наказаний. Однако такое положение вещей делает невозможным духовное совершенствование в загробном мире умерших некрещеных младенцев и нехристиан, неверующих не по своей вине. Относительно их посмертной судьбы наш автор так и не дает однозначного ответа, с рациональной точки зрения признавая необходимость дать им возможность в ином мире определить свое отношение ко Христу, а с догматической точки зрения настаивая на том, что для спасения необходимо уже в этой жизни веровать во Христа и принадлежать к Его Церкви (Ανδρούτσος, 1907a, 414–417).
Учение о почитании святых и икон Андруцос подобно митр. Макарию и свт. Сильвестру помещает не в разделе экклезиологии, а в эсхатологии. Если святые по любви возносили свои молитвы за людей, живя на земле, то тем более они будут продолжать это делать в непосредственном присутствии Христа. Бесполезно было бы пытаться постичь механизм того, как святые узнают содержание возносимых к ним молитв, ведь и ангелы знают о нашей земной жизни и обращенных к ним молитвах непостижимым для нас образом. Почитание святых и икон, конечно, следует отличать от совершенного поклонения и служения Богу и можно назвать скорее чествованием, чем поклонением в собственном смысле слова (Ανδρούτσος, 1907a, 421–426).
Упоминая о той пользе, которую усопшие получают от совершаемых за них благотворений, молитв и приношений бескровной Жертвы, Андруцос задается вопросом о том, в чем же конкретно состоит эта польза. Мнение, согласно которому она состоит в уменьшении или полном упразднении мучений для находящихся в аду грешников, он отвергает, поскольку оно ведет к католическому учению о чистилище и временных наказаниях для удовлетворения Божественного правосудия. Мнение, согласно которому она состоит в укреплении развития в загробной жизни тех семян добра, которые у покаявшихся не смогли по определенным причинам полностью раскрыться на земле, он также отвергает, признавая вместе с тем, что оно становится все более распространенным в православной догматике. Ведь таинство Покаяния состоит в полном прощении грехов, дающем оправдание и спасение, и поэтому покаявшийся усопший уже не нуждается в заботе о нем со стороны Церкви, сразу достигая Царства Небесного. Ответ нашего автора состоит в том, что как нам непонятен механизм действия наших молитв за живущих на земле, так же непонятен нам и смысл поминовения усопших, хотя и то, и другое должно, без сомнения, совершаться (Ανδρούτσος, 1907a, 426–435). На самом деле, учение о возможности для скончавшихся в вере и несовершенно покаявшихся через помощь Церкви получить облегчение мучений или полное избавление от уз ада, а также содействие в своем духовно- нравственном развитии является принятым догматическим учением. Наш автор несправедливо на него нападает, а его собственный ответ никак нельзя назвать удовлетворительным, на что ему указывают Диовуниотис (Δυοβουνιώτης, 1907, 63) и Баланос (Μπαλάνος, 1907, 705).
Андруцос считает бесполезным подробное исследование о различных областях и состояниях загробного мира и местах их нахождения. Он не принимает учения о третьей области кроме рая и ада, поскольку оно очень похоже на учение о чистилище. Вместе с тем наш автор допускает нахождение в аду наряду с окончательно погибшими грешниками таких не смертно согрешивших, которые имеют надежду на спасение (Ανδρούτσος, 1907a, 435–436). Однако он не разъясняет, каким же образом они могут это спасение получить, так что это допущение может противоречить высказанному им же выше мнению, согласно которому находящиеся в аду уже не имеют надежды на облегчение своих мучений или полное избавление от них.
Излагая основы общей эсхатологии, Андруцос отмечает неопределенность признаков второго Христова пришествия, которые в той или иной степени можно отнести к любой эпохе. Он отвергает хилиазм и все ошибочные мнения Оригена о воскресении мертвых и будущем состоянии мира. Отвергает наш автор и учение о всеобщем восстановлении как противоречащее свободе воли разумных существ, при этом указывая, что полное объяснение возникающих по этому вопросу недоумений превышает человеческий ум. Превышают наше понимание в настоящем веке, пишет греческий богослов в заключение своего труда, и будущие состояния блаженства и мучений, которые окончательно нам откроются только после всеобщего суда (Ανδρούτσος, 1907a, 437–448).
Заключение
«Догматика Православной Восточной Церкви» внесла свой вклад в развитие богословского образования в современной Греции. В первой половине XX в. она стала основным учебником для всех греков, желавших изучать православное догматическое богословие. Андруцос в некотором смысле стал учителем П. Трембеласа, составившего в середине XX в. другой учебник догматики и ставшего в этом отношении преемником нашего автора. В дальнейшем при возникновении в Греции богословских споров наследие Андруцоса нередко становилось предметом живейшего обсуждения и критики.
Достоинство «Догматики» состоит в компактности, ясности и стройности изложения, поэтому недаром Трембелас характеризует труд Андруцоса как «конспективный, довольно сжатый и систематический» [Τρεμπέλας, 1959, 58]. Действительно, наш автор излагает материал строго систематически, относя все исторические аспекты развития вероучения к дисциплине «История догматов». Он не превращает свое сочинение в подборку библейских и святоотеческих цитат, что было свойственно его предшественникам, но сосредотачивается на последовательном развитии основных положений православного богословия и опровержении ошибочных учений. В этом отношении он ближе к сравнительно кратким русским учебникам XX в., чем к многотомным дореволюционным пособиям. При этом он активно пользуется рациональной аргументацией, в то же время подчеркивая ограниченность ее возможностей в вероучительных вопросах. Однако не все православные богословы одобрили подобный подход, так, прп. Иустин (Попович) считал, что «Догматика» «отличается содержательностью, но уделяет много места философскому осмыслению догматических истин» [Иустин Попович, 2006, 58].
Во время написания «Догматики» в Русской Церкви уже начинался процесс переоценки православного богословского наследия последних веков. Однако этот процесс Андруцоса, как и других греческих авторов начала XX в., никак не затронул, в том числе и по причине их слабого знакомства с русской мыслью. Они находились на уровне развития православного и западного богословия XIX в. Оппоненты Андруцоса, Диовуниотис и Баланос, представившие отдельные возражения на те или иные детали его догматической системы и различные неудачные выражения, в целом не имели принципиально иного подхода к самому методу богословствования. Неудивительно, что Фельми называет нашего автора «самым значительным представителем “схоластического” направления в греческом богословии» [Фельми, 1999, 10]. Прот. Д. Стани-лое, в молодости сделавший перевод «Догматики», также остался недоволен ее схоластичностью [Louth, 2015, 128]. Х. Яннарас, негативно отзываясь об этом сочинении, отмечает его сильную зависимость от Запада, отрыв от православного опыта, рационализм и юридизм [Γιανναράς, 2021, 324–330]. Нашему автору не удалось наметить перспектив развития тех вопросов, которые будут активно обсуждаться в XX в. на Востоке и Западе, особенно в таких сферах, как мистическое богословие, сотериология, экклезиология и сакраментология. Поэтому труд Андруцоса, полезный для своего времени, сейчас представляется уже в значительной степени устаревшим. Но и в наши дни он переиздается и регулярно включается в перечень рекомендуемой литературы по изучению догматического богословия.
Источники и литература
Список литературы "Догматика православной восточной церкви" Христоса Андруцоса как учебник догматического богословия
- Ανδρούτσος (1901) — Ανδρούτσος Χ. Δοκίμιον συμβολικής εξ απόψεως ορθοδόξου. Αθήναι: Τυπογραφείον Διονυσίου Γ. Ευστρατίου, 1901. 358 σ.
- Ανδρούτσος (1903) — Ανδρούτσος Χ. Το κύρος των αγγλικών χειροτονιών εξ απόψεως ορθοδόξου. Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1903. 95 σ.
- Ανδρούτσος (1905) — Ανδρούτσος Χ. Αι βάσεις της ενώσεως των Εκκλησιών κατά τα αρτιφανή των Ορθοδόξων Εκκλησιών γράμματα. Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1905. 87 σ.
- Ανδρούτσος (1907a) — Ανδρούτσος Χ. Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Αθήναι: Τυπογραφείον του “Κράτους”, 1907. ιστ’, 462 σ.
- Ανδρούτσος (1907b) — Ανδρούτσος Χ. Δογματικαί μελέται. A. Αθήναι: Τυπογραφείον A. Διαλησμά, 1907. 148 σ.
- Ανδρούτσος (1908) — Ανδρούτσος Χ. Δογματικαί μελέται. B. Αθήναι: Τυπογραφείον A. Διαλησμά, 1908. 78 σ.
- Δυοβουνιώτης (1907) — Δυοβουνιώτης Κ. Η Δογματική του Χρήστου Ανδρούτσου κρινομένη. Αθήναι: Τυπογραφείον Σ. Κ. Βλαστού, 1907. 66 σ.
- Δυοβουνιώτης (1908) — Δυοβουνιώτης Κ. Οφειλομένη απάντησις. Αθήναι: Τυπογραφείον Σ. Κ. Βλαστού, 1908. 161 σ.
- Μπαλάνος (1907) — Μπαλάνος Δ. Κρίσις της δογματικής του κ. Χρήστου Ανδρούτσου // Νέα Σιών. 1907. Τόμος ΣΤ’. Σ. 669–706.
- Антоний Амфитеатров (1862) — Антоний (Амфитеатров), архиеп. Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви. СПб.: Типография Александра Якобсона, 1862. 283 с.
- Давыденков (2020) — Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2020. 688 с.
- Иустин Попович (2006) — Иустин (Попович), преп. Догматика Православной Церкви. Введение // Собрание творений. Т. 2. М.: Паломник, 2006. 606 с.
- Макарий Булгаков (1883a) — Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб.: Типография Р. Голике, 1883. 598 с.
- Макарий Булгаков (1883b) — Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическоебогословие. Т. 2. СПб.: Типография Р. Голике, 1883. IХ, 674 с.
- Малиновский (1903) — Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Т. 2. Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1903. VII, 445 с.
- Малиновский (1909a) — Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Т. 3. Сергиев Посад: Типография Свято-ТроицкойСергиевой лавры, 1909. VI, 768 с.
- Малиновский (1909b) — Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Т. 4. Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1909. VI, 704 с.
- Малиновский (1910) — Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Т. 1. Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1910. VI, 464 с.
- Сильвестр Малеванский (1889) — Сильвестр (Малеванский), свят. Опыт православного догматического богословия. Т. 3. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. VI, 523 с.
- Сильвестр Малеванский (1892) — Сильвестр (Малеванский), свят. Опыт православного догматического богословия. Т. 1. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1892. III, 317 с.
- Фельми (1999) — Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999. 304 с.
- Филарет Гумилевский (1865) — Филарет (Гумилевский), свят. Православное догматическое богословие. Ч. 2. Чернигов: Типография Ильинского монастыря, 1865. 527 с.
- Louth (2015) — Louth A. Modern orthodox thinkers. From the Philokalia to the present. London: SPCK, 2015. 382 p.
- Αθανάσιος (1806) — Αθανάσιος o Πάριος Επιτομή είτε Συλλογή των Θείων της Πίστεως Δογμάτων. Λειψία: Τυπογραφείον Βράϊτκοπφ και Έρτελ, 1806. XX, 531 σ.
- Γιανναράς (2021) — Γιανναράς Χ. Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα. Αθήναι: Ίκαρος, 2021. 512 σ.
- Δαμοδός (2013) — Δαμοδός Β. Δογματική (Θεία και ιερά διδασκαλία). Τόμος Α1. Άγιον Όρος: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2013. 88*, 470 σ.
- Ευγένιος Βούλγαρης (1872) — Ευγένιος Βούλγαρης, αρχιεπ. Θεολογικόν. Βενετία: Τύποις του Χρόνου, 1872. Oδ’, 616 σ.
- Μοσχόπουλος (1851) — Μοσχόπουλος Α. Επιτομή της δογματικής και ηθικής θεολογίας. Κεφαλληνία: Τυπογραφείον η Κεφαλληνία, 1851. Iσ’, 510 σ.
- Ρώσης (1903) — Ρώσης Ζ. Σύστημα δογματικής της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Αθήναι: Τυπογραφείον Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1903. 502 σ.
- Τρεμπέλας (1959) — Τρεμπέλας Π. Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Τόμος 1. Αθήναι: Αδελφότης Θεολόγων “Η Ζωή”, 1959. 568 σ.